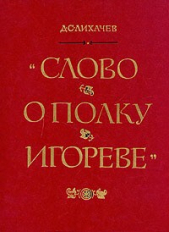Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонт
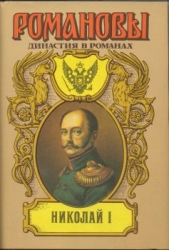
Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонт читать книгу онлайн
К. Большаков родился в Москве в семье управляющего Старо-Екатерининской больницей.
Стихи Большаков начал писать рано, с 14-ти или 15-летнего возраста. Примерно в это же время познакомился с В. Брюсовым. Еще гимназистом выпустил свою первую книгу — сборник стихов и прозы «Мозаика» (1911), в которой явственно чувствовалось влияние К. Бальмонта.
В 1913 г., окончив 7-ю московскую гимназию, Большаков поступил на юридический факультет Московского университета, и уже не позже сентября этого же года им была издана небольшая поэма «Le futur» (с иллюстрациями М. Ларионова и Н. Гончаровой), которая была конфискована. В издательстве «Мезонин поэзии» в этом же году был напечатан и стихотворный сборник поэта «Сердце в перчатке» (название книги автор заимствовал у французского поэта Ж. Лафорга).
Постепенно Большаков, разрывавшийся между эгофутуризмом и кубофутуризмом, выбрал последнее и в 1913–1916 гг. он регулярно печатается в различных кубофутуристических альманахах — «Дохлая луна», «Весеннее контрагентство муз», «Московские мастера», а также в изданиях «Центрифуги» («Пета», «Второй сборник Центрифуги»). Большаков стал заметной фигурой русского футуризма. В 1916 г. вышло сразу два сборника поэта «Поэма событий» и «Солнце на излете».
Но к этому времени Большаков уже несколько отдалился от литературной деятельности. Еще в 1915 г. он бросил университет и поступил в Николаевское кавалерийское училище. После его окончания корнет Большаков оказался в действующей армии. Во время военной службы, длившейся семь лет, поэт все же иногда печатал свои произведения в некоторых газетах и поэтических сборниках.
Демобилизовался Большаков в 1922 г. уже из Красной армии.
По словам самого Большакова, он«…расставшись с литературой поэтом, возвращался к ней прозаиком… довольно тяжким и не слишком интересным путем — через работу в газете…». До своего ареста в сентябре 1936 г. Большаков издал романы «Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова» (1928) и «Маршал сто пятого дня» (первая книга была издана в 1936 г., вторая пропала при аресте, а третья так и не была написана).
21 апреля 1938 г. Большаков был расстрелян.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Ямщик, оборачиваясь с облучка, спросил:
— Ваше благородие, не переждать ли нам? Ишь как расходился, так и хлещет.
Действительно, дождь усиливался с каждой минутой. Барашковый кивер намок, вода с него ручьями текла по лицу. Лермонтов молча кивнул головой.
У первого же по пути двора они остановились.
Лермонтов, войдя в избу, скинул мокрую шинель и кивер, платком вытер лицо, присел к столу. Андрюшка втащил дорожный погребец, начал было его распаковывать, — он досадливо махнул рукой:
— Не надо. Поди принеси мне портфель.
Огромный, как чемодан, портфель долго лежал на столе нераскрытым. Злоба, боль унижения и обиды не проходили. Наконец с лукавой горькой усмешкой он вынул из кармана привязанный к платку ключ, отпер портфель. Тетрадки, пачки писем, стопа белой бумаги, перья выпали на стол. Он выбрал из этой груды увесистый, запечатанный сургучом конверт. На конверте неразборчивой скорописью было написано:
Его благородию
поручику МАРТЫНОВУ
НИКОЛАЮ СОЛОМОНОВИЧУ
в собственные руки.
Лермонтов повертел его в руках: так держат, не решаясь распечатать, послания любимых и далёких. Улыбка, искушённая и недобрая, бродила по лицу. Ясным отсутствующим взглядом смотря куда-то мимо рук, державших пакет, сломал сургуч. Туго набитый конверт пришлось разорвать. Он скомкал и отбросил его прочь, скомкал, не читая, и сложенный вчетверо лист, исписанный тем же почерком, что и на конверте. Выпавшие три сторублёвые ассигнации небрежно сунул в карман шаровар. Лицо осветилось довольной и весёлой улыбкой. Разгладил и углубился в огромное, чуть ли не на десяти страницах, посланье. Почерк был тонкий и мелкий; так пишут женщины, готически вырисовывая большие Н и L и узкой прямой петлёй ставя маленькие. «Ха-ха, а я думая, меня честят хуже, — произнёс вслух, прочитав всё до последней строчки. Довольное и весёлое выражение не сходило с лица. — А всё-таки хорошо, что распечатал. Мартышка дурак. Пожалуй, чего доброго, вздумал бы ещё объясняться». Он вдруг рассмеялся громко и весело.
— Андрюшка, подай огня!
Андрюшка, доставая огонь, завозился в сенях, потом принёс зажжённую свечку.
Лермонтов смял в комок письмо вместе с конвертом, бросил на шесток. Потом встал, поднёс к бумаге свечку. Комок, расползаясь и развёртываясь, запылал лёгким и быстрым пламенем. Через минуту на шестке лежала только кучка чёрного трепещущего пепла.
Взгляд сделался печальным и задумчивым. Лермонтов, не отрываясь, смотрел, как вздрагивали и трепетали чёрные, покрывшиеся сединой листки сожжённой бумаги.
XI
Мартынова Лермонтов встретил на следующий же день после своего приезда в Москву. Завтракал у «Яра». Он не выносил одиночества в трактирах, скуки ради начал уже придираться к подававшей прислуге, как вдруг в дверях появился Мартынов.
Мартынова, хотя тот и был моложе его по выпуску, он знал ещё со школы. Это был весьма недалёкий и самовлюблённый малый, немного хвастливый, немного заносчивый, но он служил в кавалергардах, обладал красивой и видной наружностью, считался неплохим товарищем, не был назойлив, глупость его не раздражала. Они встретились как старые и близкие друзья. Сейчас Мартынов отправлялся волонтёром на Кавказ. Это сблизило ещё больше, встречаться стали ежедневно, вместе завтракали у «Яра», вместе на целые ночи укатывали к Пресненским прудам к цыганам. Мартынову, видимо, очень хотелось ввести приятеля в дом своих родных. Лермонтов почему-то старательно уклонялся от этого, наконец почти накануне отъезда Мартынова (сам он задерживался в Москве ещё на некоторое время) он согласился.
Что-то похожее на смущенье, неловкую робость почувствовал он, когда Мартынов представлял его своей старшей сестре, Наталье Соломоновне.
— Это, Натали, Лермонтов. Ну да, тот самый Лермонтов, чьи стихи так понравились тебе.
На Лермонтова смотрели испуганным, но храбро взметнувшимся взором.
Он был поражён. В лице, в движениях, в улыбке у Натальи Соломоновны было какое-то неуловимое, но вместе с тем и неопровержимое сходство с любовницей Нигорина. И у этой, когда ей будет под тридцать, губы будут складываться только для хищной, плотоядной улыбки, и она постигнет, какая власть дана этим густым, стыдливо опускающимся ресницам. Нет, нет, таких-то и нужно бояться. Но когда ещё? А сейчас…
На конкурсном состязании, на малознакомом коне, перед барьером охватывает подобное чувство. Неуверенность, страх, отчаяние, досада и жажда во что бы то ни стало одолеть препятствие перемешались в душе.
Но конь не обманул.
Это случилось уже после отъезда брата.
Переходы от пристального нежного внимания к равнодушной холодности, горькие признания о своей обречённости, страстные строчки стихов не оставили безразличной Наталью Соломоновну. Уже почти точно знал, что можно и что невозможно. Родители как будто что-то начали примечать, принимали теперь с подчёркнутой холодностью, только что не отказывали от дома. И он всё-таки решился.
Был час обеда. Лакей не пошёл провожать домашнего завсегдатая. В тёмном коридоре возле буфетной столкнулся с Натальей Соломоновной. Она слабо вскрикнула. Впрочем, она всегда вскрикивала, когда её целовали. Он крепко сжал её руки выше кистей. В памяти осталось что-то, как тонкий упругий ствол, сопротивляясь, клонившееся в его руках к земле, острый угол сундука, о который больно ударилось колено, слабый, изнемогающий вскрик боли. Пустота в собственном успокоенном сердце вспоминалась потом как что-то отдельное, не связанное со всем этим.
Весь обед он говорил без умолку. Наталья Соломоновна, сказавшись больной, к столу не вышла. После обеда вместе с Мартыновым-отцом курили на застеклённой, только на днях открытой террасе. Заходившее солнце прямыми полосами прорезывало начинавшую зеленеть растительность. Садовники расчищали дорожки, приводили в порядок газоны. Справа, возле беседки, жгли собранную в одну кучу сухую траву, почерневшие прелые листья. Густой синий дым стлался по земле. Иногда одинокие, тоненькие языки огня пробивались из кучи. Садовники подкладывали по краям сухой травы, тогда огонь охватывал кучу со всех сторон, высоко поднимался кверху, дым делался лёгким и белым. Сгорала быстро трава, сырая слежавшаяся листва опять заволакивалась дымом, медленно тлела только по краям. Лермонтов усмехнулся.
— Так и прошлое: нужно сжигать терпеливо и упорно. И всё равно не сожжёшь.
Об этой куче медленно тлеющего мусора вспомнил сейчас. От вздоха разлетелись остатки пепла на шестке.
В избу вошёл ямщик, снимая шапку и почёсываясь, сказал:
— Похоже, что перестаёт. Теперь и до станции пустое осталось. Едем, что ли, ваше благородие?
Лермонтов послушно вслед за ним вышел из избы.
В полк он прибыл, когда летние военные экспедиции уже кончились. Зимняя стоянка армейского полка, да ещё в такой глуши, конечно, после Царского могла только пугать. Он попросился, ему не препятствовали, и за два с половиной месяца он объездил весь Кавказ, всю линию от Кизляра до Тамани.
Осенью на Кавказ ожидали государя. В сентябре пришлось вернуться в полк, готовящийся к высочайшему смотру.
Четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка Николай смотрел в Тифлисе и остался ими доволен. Бенкендорф сдержал данное старухе Арсеньевой обещание: на другой же день после смотра, одиннадцатого октября, последовал приказ:
Переводится:
Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом.
Прошлогодняя перепрелая листва дымилась и не сгорала. Ещё с Кавказа Лермонтов писал Раевскому:
Любезный друг, Святослав.
Я полагаю, что либо моих два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.
Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение [31] веселее Грузии.
С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом: изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шухе, в Кубе, Чемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьём за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское, даже……………………………………………………………………………………………..
Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато жизнь веду примерную: пью вино, только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь… Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроём из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирной, разумеется), — и чуть не попались в шайку лезгин. — Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслажденье, так это татарские бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целые дни.
Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее, теперь остаётся только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским [32].
Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому образу жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург: увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьёзно думаю выйти в отставку.
Прощай, любезный друг, не забудь меня и верь всё-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.
Вечно тебе преданный
М. Лермонтов