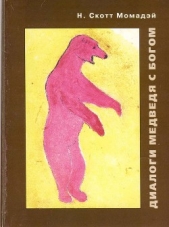Грустный шут
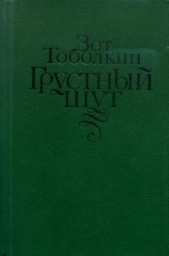
Грустный шут читать книгу онлайн
В новом романе тюменский писатель Зот Тоболкин знакомит нас с Сибирью начала XVIII столетия, когда была она не столько кладовой несметных природных богатств, сколько местом ссылок для опальных граждан России. Главные герои романа — люди отважные в помыслах своих и стойкие к превратностям судьбы в поисках свободы и счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кирша? Ну что ж, господин Кирша, — вы должны с Митей сберечь то, что выиграю я…
— Это нехитро! Ты токо выиграй! — оживился ямщик.
— Можете в этом не сомневаться, — итальянец привел себя в порядок, и все трое отправились в Тихий кабак. Здесь пили в меру, потому что был иной интерес: собирались, чтобы играть в кости, в зернь, в карты.
Пинелли толкнул низкую дверь, уводящую в подземелье, обернулся к спутникам, оробевшим у входа:
— Игры не признаю… нужда играть заставляет. Но будет время, — он вгляделся в сумрак, дохнувший нечистым, спертым воздухом, и уж в кабаке закончил: — Да, будет такое время, друзья, когда никто не станет доверять свое счастье азарту. Вы это увидите, как только я выстрою свой город…
Здесь слышалась иноземная речь, но пахло русскими щами и русским же пивом. Двое — ганзеец и англичанин, — поставив локти на стол, старались пережать один другого. Четверо веселых фламандцев бросали кости. У них на коленях сидели гулящие девки. В углу скучал Фишер, очевидно кого-то поджидая.
— Опять тут этот, — шепнул Митя, указав на него Пинелли. — Ему показываться нельзя.
— До поры не показывайтесь, — кивнул Пинелли. — А когда я выиграю — возьмете мой выигрыш. Один я, пожалуй, не унесу.
Оставив Митю и ямщика, заказавших себе пельменей и водки, итальянец ушел.
— Сеньор, — поклонился он церемонно Фишеру, — вы не узнали меня?
— Ты, кажется, служил на моем судне, — притворился непомнящим Фишер.
— Я служу лишь искусству, — обиделся Пинелли, но он собрался играть, и тут уж было не до обид. — Сыграть не желаете?
— У тебя есть что поставить?
— Вот медальон… Начнем с него.
— Что ж, мечи. — Прикрыв тяжелые веки, из-под которых лукаво блеснули глаза, Фишер поманил к себе полового. — Вина!
Началась игра. И вскоре медальон итальянца, а затем камзол, штаны и рубаха Пинелли перешли к Фишеру.
— Закладывайте себя, сударь, — откровенно потешаясь над скульптором, хохотал Фишер. — Цена вам, конечно, не велика. Но я буду снисходителен.
— Себя я не продаю, — угрюмо огрызнулся Пинелли, прикрывая ладонями голую грудь.
— Иди на выручку! — подтолкнул ямщика Митя. — Леня-то наш в пух и прах продулся.
— Да я сроду не игрывал!
— Кафтан свой отдашь, шапку… Играть он будет.
Но и кафтан, и Киршина шапка, а затем и сапоги тотчас перешли к Фишеру, игравшему мечеными картами.
— Зовите третьего, — предложил он. — Что ж он прячется? Ему есть что проигрывать.
— Заметил он тебя, — сказал Кирша прятавшемуся за матросами Мите. — Айда.
— Доигрались, — вздохнул лейтенант, но терять было нечего и осталось довериться собственной судьбе. — Э, пропади она!..
— Сам играть буду, — сказал Фишеру, — на чертежи мои…
— Я посвечу вам, — Пинелли услужливо приподнял подсвечник, выхватил из мрака зловеще улыбавшееся лицо Фишера и, напряженное, с капельками пота на лбу, — Митино.
— Не подать ли винца, залетные? — спросил волосатый, глыбистый целовальник, которого все, кто бывал здесь, звали Порфишей.
Высок, плечист Митя, но против этой замшелой глыбы — дитя. Потому и кабак Тихим зовется, что при Порфише драк не затевают. Суд его скор и окончателен. Сшибет дерущихся лбами, обшарив, вышвырнет. Изредка на помощь целовальнику приходят дюжие его сыновья.
— Подай, любезный, — кивнул Фишер, похрустывая пальцами в перстнях. — Да получше… За мой счет, разумеется.
Митя достал из-за голенища привязанную к ноге карту, бросил на стол.
— Сдавайте, — потягивая вино, предложил Фишер, скрывая великое нетерпение. Вот сейчас карта, за которой так долго гонялся и которая стоит целое состояние, перейдет к нему. Как легко и бездумно эти русские проигрывают то, на что убили многие годы! Спокойно, спокойно! — приказал он себе.
— Это последний наш шанс. Спешить не следует, — пробормотал Пинелли и, размахнувшись подсвечником, хватил Фишера по голове.
— Ты что, Леня! — изумился Митя, не ожидавший от итальянца такой выходки.
— Это называется реванш, — подняв руку, сказал Пинелли, считая, что вернул свой проигрыш.
Однако Порфиша с сынками был уже начеку. Они резво подскочили к незадачливым игрокам, вытолкали их на улицу. Сами взялись за добычу.
— Одне хахаряжки! — возмущенно пробасил младший Порфишин отпрыск, оглядев стол.
— Не там глядишь, тюря! — старший изъял у Фишера кисет с деньгами, золотую табакерку, снял с пальца драгоценный перстень.
— Ты, сынок, у меня добытчик, — похвалил его Порфиша. Зыркнув красными от постоянного недосыпания глазами, опустил добытое в карман. — Тряпки выбрось, — велел младшему. Другому приказал убрать Фишера. — Подале его отнеси, чтоб охулки на нас не было. Мы люди простые, честные…
Брезгливо, двумя пальцами, взял бесценную Митину карту, кинул в горящий очаг.
Троица, которой изменило счастье в картах, гнулась, приплясывала под ветром. Мимо них прошла гулящая баба, волоча за собой упиравшуюся девку. Если б Митя пригляделся, он бы узнал в последней Верку, которую тетка выгнала на промысел. Но Митя, стыдясь, прятался от прохожих. Гулящие тянулись к теплу, к свету.
В кабаке все шло своим чередом. Фламандцы, кончив игру, пили пиво и весело пели. Ганзеец и англичанин по-прежнему напрягали мышцы, стараясь одолеть один другого. Однако, увидав Верку с теткою, не сговариваясь, борьбу прекратили и поманили гулящих к себе.
Гремели кости, кружки и братины, гудели шмелино низкие голоса. Пылал очаг, в котором догорала Митина карта.
В темноте, в грязной луже, валялся Фишер.
Солома шуршала, покалывала щеку. В углу кто-то возился, пищал, должно быть, крысы. Бросить бы чем-нибудь в них, но нет сил шевельнуться. Даже думать ни о чем не хочется. Одна из крыс взверещала, перепугав зайку. Тот вскочил Барме на грудь, пробежал по лицу. Зайка?.. Не-ет, у него мягкие, осторожные лапки. Ах, твари! Неужто зайку сглодали?..
Барма собрал источенные болезнью силы, приподнялся. В глазах мельтешило. Когда боль в голове чуть-чуть унялась, взгляд стал ясней, осмысленней. Две огромные крысы драли зайкину шкуру. Кости его, обглоданные дочиста, валялись тут же. «А где ж глаза? — спохватился Барма. Ужасней всего было вообразить, что эти мерзкие существа раздавили своими зубами милые зайкины глаза, так умно, так преданно смотревшие на Барму. — Где глаза твои, Зая?»
Барма поднялся на четвереньки, пополз к крысам. Те юркнули под пол, а на стене зажегся огромный заячий глаз, осветил мрачную, с охапкой соломы на полу темницу. Нет, не глаз — это солнце смиловалось и проникло в духовое отверстие, осияв лучом черный город Пинелли, в котором не было ни единого жителя, если не считать крыс и Бармы. Но крысам и под полом хорошо. Барме — здесь, на соломе. «Хорошо, хорошо… живу!» — обессиленно падая, шептал Барма, а луч солнечный шарился в бороде его, щекотал ноздри, сушил ползущую по щеке серебристую каплю. Как удивилась бы мать, увидав, что Барма плачет. Плачет по зайцу, который был предан, по Дуняше и Мите, о которых ничего не известно, по родителям, а еще — по России. «Это что же, а? Это что же, люди? Я плачу? Вот потеха!..»
Барма рассмеялся слабым, скрипучим смехом, и крысы, было выглянувшие из норы, вновь скрылись. Странное, ранее незнакомое ощущение тепла и влаги в глазах передалось сердцу. Сердце дрогнуло вдруг, часто забилось. Стало легко и сладко от слез, словно слезы вымыли давнюю накипь горечи, злобы, годами откладывавшейся в душе.
«Чаще реветь, может, легче станет? — усмехнулся Барма, проверяя свои ощущения. — Не потому ли дети малые часто ревут? И Россия от слез не просыхает. Если так — омоем ее слезами. От смеха она отвыкла. От тишины и правды отвыкла. Где смех был, там смерть и горе. Кто правды искал, тот встретился с нею на костре, на дыбе. Вон ворот скрипит… кому-то кости ломают. Скоро и мой черед настанет. Страшно ль? Не-ет, испытал в Светлухе. Только потерпеть чуть дольше, и все кончится. Слетят вечный покой, тишина и свобода ото всего. Как ни печальна смерть, а тот, кто помер, ни о себе, ни о ближних не помышляет. Баюкает его мать-земля, прорастает он травами, деревьями и цветами».