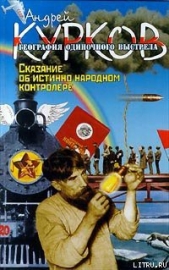Сказание о Маман-бие

Сказание о Маман-бие читать книгу онлайн
Перевод с каракалпакского А.Пантиелева и З.Кедриной
Действие романа Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" разворачивается в середине второй половины XVIII века, когда каракалпаки, разделенные между собой на враждующие роды и племена, подверглись опустошительным набегам войск джуигарского, казахского и хивинского ханов. Свое спасение каракалпаки видели в добровольном присоединении к России. Осуществить эту народную мечту взялся Маман-бий, горячо любящий свою многострадальную родину.
В том вошла книга первая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Рисуешься храбрецом… но у храброго мужа слово не расходится с делом! — сказал хан. — На твоих глазах творится коварство, а ты пустословишь, сложив руки… Непохоже на тебя.
— Какое коварство?
— Будто не знаешь! Самое преступное: ссорят нас бесстыдно, суют мне в руки нож, а вам, черным шапкам, шило. Собственными ушами слышал, что ваши старейшины задумали… Ни много ни мало — захватить ханство Малого жуза! А может, это и так? Вы головы лихие… Поэтому я и вышел из себя, распушил вас под горячую руку. Теперь понял? Смекаешь, откуда ветер дует? Слышал-то я эту подлость от человека, которому верить не надо, а не верить — трудно, ох как трудно…
— Кто, кто он? — пробормотал Маман.
Тот самый, который напялил на тебя эту зеленую тряпку.
— Митрий-туре! — вскрикнул Маман, ошарашенный, готовый рассмеяться хану в лицо, готовый заплакать от смеха.
Абулхаир-хан понял его по-своему. С младенчества, всем своим существом, сжился хан с тем, что его суд — непререкаем и неоспорим, а приговор бесповоротен. Всю свою жизнь привыкал к беспрекословию своих слуг, больших и малых, и любил его горячей, чем своих жен.
С удовольствием наблюдая смятение Мамана и в мыслях не держа, что тот может ослушаться или воспротивиться, Абулхаир-хан сказал, смакуя слова:
— Это простить нельзя. Спустишь раз — проиграешь многажды. Надобно его наказать примерно, чтобы вперед неповадно было. Едет к вам — самый подходящий случай. Пугнуть его, чтобы прибежал назад, ни живой ни мертвый, помешанный, как после пытки в бухарском зиндане. А можно… можно и перестараться, бий мой… чтобы и вовсе не прибежал. Сгинул бы, подобно дыму из кизяка, без запаха, без цвета. Этого не осужу.
Затем хан добавил доверительно, как соумышленнику, как равному:
— Был у нас схожий случай — с мурзой Тевкеле-вым, лукавым татарином, теперь уже русским полковником. Два года водили его за нос, играли с ним, как кот с мышью. Два года висел он на волоске. Твой отец Ора-зан-батыр помешал оборваться волоску. Исправь его глупую ошибку. Не дай господину поручику стать господином полковником.
И еще сказал хан:
— Хочешь благополучия и мира между нами? Хочешь своих осчастливить? Пусть эта одежка станет памятью о храбрости, которая не по плечу твоему отцу… возвысся!
Маман наконец перевел дух. Встряхнулся, точно от бредового сна.
— Вы… кажется… что-то сказали, хан наш… простите?
— Хан свое слово не повторяет, юный бий. И воля хана — воля самого аллаха.
— Хан наш… так ли я понял? Чудится мне… здесь пролетела птица поспешности, с красными когтями… Терпение, говорят, это тень, спасающая от убийственного зноя… Здоровы ли вы, хан наш?
Это было нестерпимо. Но Абулхаир-хан умел быть хладнокровным. Он не унизился до угроз, тем более увещеваний, лишь сказал себе, что этот раб умрет.
— Бог дал удачу твоему языку. Однако молодость — конь необузданный, — заметил хан со светлым беззаботным ликом.
— Я утомил вас, хан наш, позвольте мне уйти, — сказал Маман, не поднимая глаз: в них горел огонь презренья перед быстрой смертью, которая сидела прямо напротив него, на кожаных подушках, в богатой шубе, такой огонь упоения бесстрашием, которого хану не следовало видеть.
Хан ответил, глядя на него в упор:
— Слезай… и езжай помедленней, а то наглотаешься пыли…
Маман на ходу соскочил с коляски. Подскочил Аманлык и подал ему коня, а Митрий-туре бегло, рассеянно махнул рукой из своей коляски.
Всю дорогу Маман не находил себе места. Ни разу он не смог остаться наедине с Гладышевым. Около его коляски было безлюдно, но Маман знал, что, если он подступится к коляске, получит копье в спину.
Митрий-туре держался беспечно. Он не замечал молящих взглядов Мамана. На привалах каждый день уходил к казахам, садился за ханский дастархан. И это было естественно. Толмача Мансура Дельного казахи также уводили к себе. К каракалпакам его близко не подпускали.
А под конец случилось то, чего Маман совсем не ожидал. Митрий-туре передумал и повернул в ханскую ставку, коротко и небрежно попрощавшись с каракалпаками, пообещав приехать к ним вскорости.
Маману кричать хотелось. Ничего нельзя было поделать. Гладышев давно уехал, когда Маману пришло в голову простейшее: почему же он не сказал ему два-три слова по-русски, по-русски!
Маман ехал повесив голову и все бубнил и бубнил себе под нос, как мог бы сказать Митрию-туре: — Хорони голова, убить будет.
Потом Маман немного успокоился: вряд ли все же Гладышева тронут на земле хана; беда ему грозит, когда поедет к черным шапкам, на их земле. Надобно его встретить, проводить — не прозевать. Такая уж у них служба — у Гладышевых, Муравиных, Тевкелевых; в одиночку, лицом к лицу с недругом и предателем, невылазными интригами и риском — не снести головы, изо дня в день, из года в год. Какая, однако, сила за этими людьми и в них самих, если они превосходят и купца и воина! Что за люди — эти открыватели, ученые смельчаки, умеющие писать книги? На них хотелось походить, им тянуло подражать… Маман ободрился.
Аманлык, заметив это, предложил:
Удобней времени не улучишь, бий мой. А не повернуть ли нам в те места, где растут тюльпаны?
Мысль недурна. До тех мест было рукой подать.
— Поворачивай, мудрый мой… — сказал Маман. Отстав от старших, они поскакали в аул Айгара-бия
и напились кумыса из рук Акбидай. Но и эта встреча, такая желанная, долгожданная, оставила в душе горький осадок.
Прежде, бывало, Маман немел и замыкался при виде черноглазой, похожей на красный цветок, теперь ему было с ней легко, потому что она все время расспрашивала об Аманлыке… Маман рассказывал и рассказывал ей о своем друге и об его сестричке с деревянными сережками в ушках, и из его рассказов выходило, что Аманлык — сама верность, сама доброта.
— Из тебя вышел бы хороший сват, — сказала вдруг Акбидай насмешливо и даже сердито. — А вот он говорит про тебя, что ты злой.
— Не мог он так говорить.
— Пусть не мог… но ведь ты злой! Не виделись скоро год… а ты мне твердишь, как он любит свою сестру. Он добрый, ты злой.
А потом Маман заметил то, что мог бы заметить и раньше: какими глазами смотрит Аманлык на Акбидай и какими глазами смотрит она на него и сколько в их глазах горячего доверия и тайного понимания.
Маман вышел из юрты. Аманлык пошел за ним. Из юрты доносилась песня.
— Ты любишь ее, — сказал Маман. Убей, не знаю, сам не знаю… Ты неверная, кривая душа.
— Не ругай, я не виноват.
— Седлай коней.
Вышла Акбидай, но не сказала ни слова. На ее глазах, так же не сказав ни слова, Маман и Аманлык в поздних сумерках уехали.
Маман с места погнал коня. Аманлык отстал. Так ехали долго, словно сами по себе. Отъехали далеко.
— Эй… — окликнул Маман, — ты мне не все сказал, почему не говоришь?
— Она тебя любит, Маман, зря ты ее обидел.
— Не то говоришь.
— Но она, она…
— Молчи… Говори, кто подослал Ельмурата?
— А ты не знаешь? Будет дурака валять. Послушай, она…
— Говори!
— Бай Жандос.
— Какой Жандос?
— Ну, тот страхолюдина… Лютый такой, который изображает из себя оборотня. Ездит в овчине, вывернутой наизнанку. Ты его сто раз видел. Он с тебя глаз не спускал.
— Ах, этот… — проговорил Маман, вспоминая злющие глазки под нависшими бровями; отвернись — просверлят тебе висок, поймай их взгляд — забегают, рассыплются, как козий помет.
Бай Жандос был в Орске. Однажды подошел к Маману и как бы шутя спросил:
— Если тебя не убить, ты убьешь Есенгельды? Это была их единственная встреча.
— Как же он — Ельмурата?
— Сказал: жив не будешь, если Маман останется живой.
Маман застонал, точно от приступа невыносимой боли, стал бешено стегать коня. Никогда не слыхал Аманлык, чтобы он бил так коня.
Пошел дождь… Хлынул как из ведра. Маман и Аманлык вымокли до нитки. Маман часто и сильно стучал зубами, но не от холода.
Вскоре прояснилось. Невысоко над землей повисла оранжевая ущербная луна. В голых зарослях тамариска, точно в паутине, Маман внезапно увидел и в самом деле звероподобного всадника в овчинной шубе, вывернутой наизнанку. И услышал крик нечеловеческий, дикий, но показалось Маману, что голос кричал: