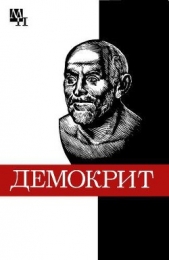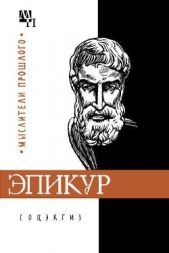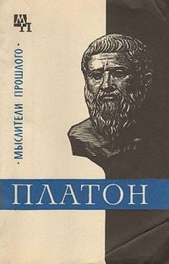Эпикур
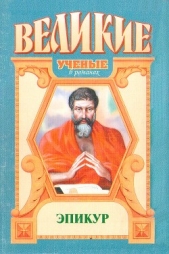
Эпикур читать книгу онлайн
Книга современного писателя Сергея Житомирского рассказывает о великом философе Древней Греции Эпикуре (341—270 гг. до н. э.), создателе одного из значительнейших нравственных учений и основателе философской школы, которая носит его имя. Среди главных героев романа нет вымышленных, исторические события описаны так, как о них рассказывают древние историки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Друзья погуляли под деревьями, окружавшими здание, и заняли удобные места. Постепенно народ прибывал, набралось человек полтораста, пришедших послушать философа или просто поглазеть на знаменитость.
Вскоре в дверях, в окружении ближайших учеников, появился Аристотель. Он вошёл энергичный, прямой, суровый. Эпикур с жадностью разглядывал лицо великого мыслителя. Резкий рот, подковообразная борода, делавшая широким и без того широкое лицо, зачёсанные на лоб густые поседевшие волосы и под нахмуренными бровями яростные глаза. Его походка была уверенной и лёгкой, походкой неутомимого охотника, облазившего в погоне за неведомыми животными немало лесов и долин. Эпикур скосил глаза на Тимократа и понял, с кого тот скопировал свою причёску.
Менандр назвал Эпикуру вошедших с Аристотелем учеников. Старший из них, крупный, большеголовый, оказался Феофрастом, второй, щегольски одетый длинноволосый красавец — Деметрием из Фалера, а третий, почти юноша — Стратоном, земляком Тимократа. Ученики сели на боковую скамью у входа, достали таблички и приготовились записывать. Философ вышел на середину оставленного для него пространства, произнёс приветствие и, едва в зале наступила тишина, начал беседу.
Эпикур смотрел на него, не веря, что этот невысокий быстрый человек и есть тот самый мудрец, воздвигший грандиозное здание мысли, которое вместило всё сущее. Но стоило Аристотелю заговорить, Эпикур почувствовал скрывавшуюся в нём силу. Философ говорил твёрдо, значительно, с подчёркнутой беспристрастностью. Было видно, что он временами перебивает себя, боясь удалиться от темы, и если бы задумал рассказать обо всём достойном внимания, то на это не хватило бы человеческой жизни.
Тему беседы он объявил как разговор о природе нравственности и добродетели.
— Всякое искусство, учение, поступок или сознательный выбор, — начал он, — стремится к какому-либо благу. Поэтому удачно определяли благо как то, к чему все стремятся. В целях, однако, обнаруживается различие, потому что одни цели — это деятельности, а другие — определённые их результаты. Результаты, естественно, ценнее самих действий.
Так как действий, искусств и наук много, много и целей. У врачевания — это здоровье, у судостроения — корабль, у военачалия — победа, у хозяйствования — богатство. Ряд этих действий и искусств может подчиняться одному какому-нибудь умению, подобно тому как искусство делать уздечки подчинено искусству править лошадьми, а само оно, как всякое действие в военном деле, подчинено искусству военачалия.
Если же у того, что мы делаем, существует некая цель, желанная сама по себе, а остальные желанны ради неё, то ясно, что цель эта есть собственно благо.
Познание его имеет огромное влияние на образ жизни. И если так, надо попытаться хотя бы в общих чертах представить себе, что это такое и к какой из наук или умений имеет отношение. Надо, видимо, признать, что оно, высшее благо, относится к важнейшей науке, которая, главным образом, управляет, то есть к науке о государстве, или политике. Ведь наука о государстве пользуется остальными науками как средствами и, кроме того, законодательно определяет, какие поступки следует совершать, а от каких воздерживаться. Таким образом, её цель, видимо, включает цели других наук, а следовательно, эта цель и будет высшим благом.
Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным представляется всё же благо государства, достижение его и сохранение. Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо народа и государства.
Что же есть высшее из благ, осуществляемых в поступках? Относительно его названия сходятся, пожалуй, почти все, причём как большинство, так и люди утончённые называют высшим благом счастье. Но в вопросе о том, что есть счастье, возникает расхождение, и большинство даёт ему иное определение, чем мудрецы.
В самом деле, для одних счастье — это нечто наглядное и очевидное, скажем, удовольствие, богатство или почёт — у разных людей разное. А часто даже для одного человека счастье — то одно, то другое: ведь, заболев, видят счастье в здоровье, впав в нужду — в богатстве.
Некоторые думали, что помимо этих многочисленных благ есть и нечто другое — благо само по себе. («Это он о Платоне», — понял Эпикур).
Следует задаться вопросом, в каком смысле говорят о благе, хотя именно такое рассмотрение вызывает неловкость, потому что эту идею ввёл близкий мне человек. И всё-таки лучше — во всяком случае это мой долг — ради спасения истины отказаться даже от дорогого и близкого, особенно если мы философы. Ведь хотя и то и другое дорого, долг благочестия — истину ставить выше!
И Аристотель подверг уничтожающей критике платоновскую идею абсолютного блага, а заодно и вообще мысль о существовании особого мира первообразов. Нападения шли с разных сторон, и едва противник, сокрушённый очередной атакой, падал, философ тут же воскрешал его, чтобы снова убить уже другим оружием. Только немногие, в том числе Эпикур, могли уследить за тонкостями доказательств, но было похоже, что почти всех оратор заставил поверить в свою правоту.
Переведя дыхание после полемики с учителем, Аристотель продолжал:
— Вернёмся теперь к благу: чем оно могло бы быть? Мы назвали его счастьем, но непременно нужно определить ещё и его суть. Может быть, это получится, если принять во внимание назначение человека.
В самом деле, жизнь представляется чем-то общим как для человека, так и для растений, а то, что мы ищем, присуще только человеку. Значит, нужно исключить из рассмотрения жизнь с точки зрения питания и роста.
Таким образом, назначение человека — деятельность души, согласованная с суждением. Если это так, то человеческое благо представляет собою деятельность души сообразно добродетели.
Таким образом, добродетельный будет обладать счастьем в течение всей жизни, поскольку в поступках будет сообразовываться с добродетелью, а превратности судьбы переносить пристойно во всех отношениях как человек «безупречно квадратный»...
— Квадратный? — шёпотом переспросил Тимократ Эпикура.
— Это из песни Симонида: «Трудно стать человеком поистине добрым», — шепнул тот.
Тимократ кивнул, а Аристотель тем временем продолжал рассуждать о добродетели.
— Добродетель, — говорил он, прохаживаясь перед слушателями, — это способность поступать наилучшим образом во всём, что касается удовольствий и страданий. Ведь три вещи мы избираем и трёх избегаем: первые три — это прекрасное, полезное и доставляющее удовольствие, а противоположные им — это постыдное, вредное и причиняющее страдание. Во всём этом добродетельный поступает правильно, а порочный оступается, причём обычно из-за удовольствий, потому что они — общее достояние всех живых существ...
Аристотель рассуждал об устройстве души, которую разделял на три части: первую — обладающую суждением, вторую — подвластную влечениям, но послушную первой, и третью — «растительную», связанную с ростом и питанием, не подчинённую разуму. Потом он обратился к сути отдельных добродетелей, которые определил как середину между недостатком и избытком какого-то свойства. Мужество, к примеру, он считал серединой между трусостью и смелостью безрассудства, щедрость — знанием меры между скупостью и мотовством. Закончил он призывом к государственным людям изучать этику, поскольку их дело — забота о душах граждан.
Слушатели проводили философа аплодисментами. Друзья вместе с другими покинули гимнасий, и Менандр предложил немного погулять. Они направились на север по пустынной в этот час Ахарнской дороге. Был свежий и светлый весенний вечер, кое-где в сырых низинах состязались хоры лягушек, звенели первые комары.
— Ну, как тебе Аристотель? — обернулся к Эпикуру Менандр.
— Я не ожидал, что в нём столько желчи.
— Считаешь, Симонид не назвал бы его «совершенно квадратным»? — спросил Тимократ.
— Современный Симонид, — предположил Менандр, — взял бы в идеалы более модную фигуру, скажем, сферу или в крайнем случае круг.