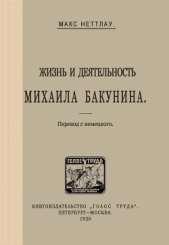Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Баку
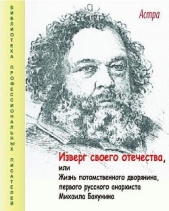
Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Баку читать книгу онлайн
Из «Исповеди» Михаила Бакунина царю Николаю I.
«… Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством… Хотел ворваться в Россию и… всё вверх дном разрушить, сжечь… Жажда простой чистой истины не угасала во мне… Стою перед Вами, как блудный, отчудившийся и развратившийся сын перед оскорблённым и гневным отцом… Государь! Я преступник великий… пусть каторжная работа будет моим наказанием…»
Сколько же было до, сколько после. В том числе и «самый длинный в мире побег» из Сибири в Европу через Японию и Америку.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А на все поставленные в «Письме…» вопросы твердо ответил шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф.
— Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана.
— Нет ли вестей из Прямухино? — тормошил Мишеля вернувшийся с уроков Виссарион.
Мишель забрел к нему в его отсутствие и заснул прямо за столом. Всю ночь он проговорил с Хомяковым об истории России, о бунтах и смутах, коими столь богато ее прошлое, о Разине, о Пугачеве… «Всенощными бдениями» уже окрестили друзья ночные беседы Мишеля.
Белинский же, оставшись без журнала, продолжал писать и печататься кое-где по другим изданиям, давал уроки, устраивался для заработка в Межевой институт и продвигал свою «Грамматику..».. Публикация «Философического письма» чуть не наделала бед и в его судьбе тоже. По возвращении в Москву он ощутил внимание к себе со стороны полиции и признаки секретного дознания. Это перепугало его до смерти. Болезненный, беззащитный, он повел себя тише воды, ниже травы, и ускользнул, уцелел. Сам же Чаадаев отказался на допросе от намеренных стремлений к напечатанию своего произведения, сказав, что не знает, каким образом они появились на страницах «Телескопа», хотя сам же и настоял на том, чтобы из пяти «Писем..». было выбрано первое, самое резкое, в то время как Надеждин остановился для начала на третьем или четвертом. Ссылка Надеждина в Усть-Сысольск длилась не слишком долго, но вернулся он оттуда с больными парализованными ногами и отвращением к изданию журналов.
Главное же событие в жизни Белинского, последовавшее после разгрома журнала, «Событие» с большой буквы, то, что грело сейчас его сердце, произошло на прошлой неделе.
Пушкин… Пушкин пригласил его в свой журнал «Современник». Пока в виде предположения, и не тотчас, а по весне либо к лету. Пушкин! Поэт целого человечества, а не одной какой-нибудь эпохи, поэт не одной какой-нибудь страны, а целого мира! Не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии… Пушкин пригласил его! Пригласил, несмотря на мнение Белинского, что поэтический гений Пушкина угасает, что время его в русской словесности закончилась, и даже что Пушкин никогда не станет дельным издателем журнала… невзирая на сии печатные заявления, казавшиеся Белинскому истиной, — Пушкин пригласил его в свой журнал! Он передал это через московских друзей, находясь сам в Петербурге. По весне либо к лету 1837 года!
Это подняло Белинского в собственных глазах. Ах, только Станкевич, гениальный друг, мог бы понять его и воздать должное!
— Нет ли письма? Что там делается?
Они знали, что уже второй месяц Станкевич живет в Прямухино. Из писем сестер о чем-либо догадаться было невозможно. Что, как там? Решится ли Станкевич? Решится ли она, Любаша?
— Будь, что будет, — изнемогали друзья, — только скорее…
Был уже ноябрь, стояла зима. Морозы ударили рано, обещая оттепели и снега. Стекла в комнате были затянуты слоем льда, шершавым и бугристым понизу, у подоконника.
— Что за холод у тебя, Висяша! — Мишель гулко бил себя ладонями по бокам и груди, чтобы согреться.
— Хоть волков морозь, — согласился Белинский, — а в кармане хоть выспись. Все источники прекратились, просить больше нет сил.
— Чем же ты живешь?
— На подаяние кухарки.
— Пошли обедать в трактир, — Мишель, заглядывая в зеркало, пытался расчесать гребнем кудрявую гриву.
— У тебя завелись деньги?
— Мне дал их один… приятель. Ах, славная история! Вчера попал я в один дом, где хотели послушать о Канте, о Фихте, то, се. Я разошелся часов на пять. Увлек их всех уж и не помню куда, наговорил с три короба о необходимости страданий для освобождения от бессознательных наслаждений.
— Для тебя это семечки, Мишель.
— Ха! Да будь среди слушателей ты сам, Висяша, я бы и для тебя нашел в своем запасе трансцендентальных и логических штук, чтобы потрясти твою страшную действительность с ее стальными зубами и когтями. В каком ударе я был! Каким соловьем разливался! Слушали они, как овечки, а я проголодался, как волк. Наконец, сели обедать, потом зашли к хозяину в кабинет. Прилег я на диван и заснул, вот как сейчас. Вдруг слышу, скребется кто-то возле, плачет. Смотрю, стоит мой хозяин со свечой, сам не свой. «Учитель, — рыдает, — помоги мне. Я погибший человек, я пропадаю, ибо не чувствую в себе силы к страданию». Ха-ха-ха!
Белинский стоял в изумлении.
— Ох, Мишель, Мишель! Если бы собрать Хлестаковых со всего света, то они были бы перед тобою Ванички и Ванюшки Хлестаковы, а ты один остался бы полный Иван Александрович Хлестаков.
— Быть по сему. Пойдем закажем селянки, да жареного барашка, да по дюжине блинов с икрой. Выпьем-закусим во здравие суженой нашей, философии!
Они вышли на яркий зимний полдень. Морозило. От лошадиных морд валил пар. Снег под шагами звонко повизгивал. Поднявшись из Столешников, они пошли по Дмитровке в направлении Страстного бульвара. Вдоль обеих сторон улицы привольно стояли желтые, зеленые, красные и коричневые каменные двух- и трехэтажные дома, особняки с колоннами, портиками, обилующие лепниной, венками, скульптурными изображениями львов и героев. Вокруг них за литыми узорными решетками уже выросли красиво разбитые сады. Москва давно отстроилась, пожар 1812 года способствовал ее украшению.
— Поберегись! — кричали лихачи-извозчики, пролетая мимо прохожих.
В трактире, похожем на ресторацию своими большими окнами, зеркалами, тяжелой люстрой с подвесками, свисавшей над головами посередине высокого потолка, народу было предостаточно. Свободный столик нашелся на антресолях. Друзья выпили по одной, по второй, согрелись, поели, закурили трубки.
— Ты почему блинков, грибочков не отведал, Висяша?
— Сказать по правде, опасаюсь. Тяжеленьки для меня.
— Чепуха. Под водочку, а?
Виссарион помотал головой, отказываясь.
— Тебе этого не понять, Мишель. Ты благородный, ты унаследовал от родителей благую организацию. Все ваше семейство — феномен в этом отношении. Твой отец не имел до женитьбы женщины, не был пьяницей, обжорой, злым, глупым, подлым. А мой отец пил и все такое, и оттого я получил характер нервический, родился с завалами в желудке. Да что говорить…
Виссарион с мягкостью смотрел на друга. Он был привязчив и неспокоен, прощал все обиды, влюбляясь в друзей, как отрок. Сейчас он любовался Бакуниным, видел в нем поэзию, размет, львообразность.
— Дружба! вот чем улыбнулась мне жизнь так приветливо! — прочувствованно сказал он. — Жить хочется, когда имеешь таких друзей. А кстати, Боткин приехал из-за границы, слыхал?
Мишель, скатав хлебный шарик, прицелился в кого-то сидящего внизу, в самую лысину.
Виссарион перехватил его руку.
— Не ребячься, Мишель.
Мишель подбросил шарик вверх, к потолку.
— Боткин, говоришь? Я не слишком жалую этого купца, — отозвался он небрежно.
— Вы мало знакомы! После твоих сестер это первый свят человек. Сейчас он из Европы, из Рима, где наслаждался искусством. Это самый оригинальный ум в Москве. Он верует в искусство, как мы с тобой в истину. Днем сидит у отца в лавке, а вечером читает на всех языках. Оттого и лысеет, Васенька наш.
— Бог с ним. Поздравь меня, я расплатился с Левашовыми.
Друзья шутливо пожали друг другу руки.
— Добрые люди, прекрасные люди, но их мир — не наш мир! — разчувствованно ответил Verioso. — Ужели тебе заплатили за вчерашнюю лекцию? Ужели философия способна тебя кормить?
Мишель поморщился.
— Я дворянин и гонораров не беру, — с достоинством ответил он.
Белинский перестал дышать, даже зажмурился, чтобы сдержать горячий душевный всплеск.
— Откуда же эти деньги?
— Взял взаймы у того олуха.
— Без отдачи?
Мишель насмешливо хмыкнул и набил табаком свою трубку. Виссарион помолчал.