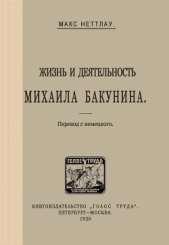Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Баку
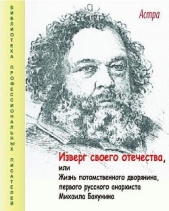
Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Баку читать книгу онлайн
Из «Исповеди» Михаила Бакунина царю Николаю I.
«… Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством… Хотел ворваться в Россию и… всё вверх дном разрушить, сжечь… Жажда простой чистой истины не угасала во мне… Стою перед Вами, как блудный, отчудившийся и развратившийся сын перед оскорблённым и гневным отцом… Государь! Я преступник великий… пусть каторжная работа будет моим наказанием…»
Сколько же было до, сколько после. В том числе и «самый длинный в мире побег» из Сибири в Европу через Японию и Америку.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как не ошибиться в любви? — тихо проговорил он. — Сколько великих людей ошибались в ней. Ты проводишь ночи с животным, которое потом назовешь матерью своих детей. Висяша, что ты скажешь?
Белинский с кривоватой улыбкой покачал головой. Белесые жидкие волосы его, подрезанные чуть ниже ушей, слабо качнулись.
— В любви высокой я не судья, — болезненно усмехнулся он. — С отроческих лет меня преследовала мысль, что природа заклеймила мое лицо проклятьем безобразия, отчего меня не может полюбить ни одна женщина. Я не верю в семейное счастье. Что мне остается? Вне любви женщины для меня нет жизни, нет счастья, нет смысла.
— Любовь Александровна, напротив, находит, что ты соединяешь в себе все условия, чтобы быть любимым женщиною с душой. Можешь представить, с каким чувством я это слушал.
— Благодатная весть ангела!… — Виссарион посмотрел на Мишеля, отыскивая в его лице родственные черты Любиньки. — Одно страшит меня: это то, что при виде женщины или промелькнувшего женского платья я уже не краснею, как прежде, но бледнею, дрожу и чувствую головокружение.
Мишель слушал его рассеянно. Вчерашнее впечатление просилось на язык.
— Намедни посетил я мудреца Чаадаева, — сказал он.
— О, интересно! И что же? О чем был разговор?
— Мы размышляли о безгосударственной, неполитической природе русского народа, отмечая то удивительное обстоятельство, что наш народ, единственный в Европе, не имеет потребности в законченных, освященных формах бытия. Господин Чаадаев полагает, что мы, русские, никогда и не шли вместе с другими народами, и не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, поскольку не имеем традиций ни того, ни другого, и словно бы стоим вне времени, — говоря, Мишель стал в позу оракула и даже поднял правую руку. — Итак, по его мнению, всемирное воспитание рода человеческого на нас не распространяется.
— Он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол? — улыбнулся Станкевич. — И одет со всевозможным тщанием?
— Со всевозможным, о, да! А я весел и шутлив, по обыкновению. Его ответные шутки были полны горечи. В Москве, говорил он, каждого иностранца водят смотреть на большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, заключил он, в котором достопримечательности отличаются нелепостью!.. Присутствовавшие шуты удостоили его аплодисментами.
— Я говорил с ним, — улыбнулся Станкевич, — мы беседовали о Шеллинге, с которым он сблизился в бытность свою в Германии. Это знакомство, вероятно, много способствовало, чтобы навести его на мистическую философию, которая развилась у него в революционный католицизм.
— Как он уцелел? — тихо спросил Белинский. — Наверняка, он был членом «Общества..».?
— Очевидно, был. Его спасло отсутствие. После отставки он жил в Германии и лишь недавно возвратился. Он отымает надежду, лишая Россию истории. Но самая мысль его стала мощью и имеет почетное место, — рассудил Станкевич.
— Я бы не согласился с тобой, Николай, насчет безнадежности, но не готов это доказывать. Надежда есть, но страшная…
И Мишель обернулся к Белинскому с видом дарителя.
— Между прочим, Висяша, Пушкин бывает у него всякий раз, как наезжает в Москву. Чаадаев показывал небольшое пятно на стенке над спинкой дивана: тут Пушкин прислоняет голову!
Белинский погрустнел, глядя на трепетный огонь свечи. Губы его сжались, выражая сильную внутреннюю работу.
— Сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву печально без меры, — вздохнул он, наконец. — Между ними не только их жизнь, но целая эпоха. Пушкин-юноша говорит другу:
Но заря не взошла, а взошел… мы знаем, кто. И Пушкин пишет:
Белинский со стоном оперся локтями в колени и совсем повесил голову. Глаза его увлажнились.
Мишель взглянул на него с оттенком снисходительности и продолжал.
— Мы долго говорили о прогрессе рода человеческого, коего он провозгласил себя руководителем и знаменосцем. Он живет отшельником, в обществе появляется редко. Тем не менее, в его кабинете толпятся по понедельникам как «тузы» английского клуба, так и модные дамы, генералы. Все считают себя обязанными явиться в келью сего угрюмого мыслителя и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь словцо, сказанное им на их же счет. Он очень хорошо дает чувствовать расстояние между им и ними. Были там и молодые люди, странная помесь полнейшей пустоты и огромных притязаний. Когда заговорили, что привычка есть основание всякого чувства, тут-то я излил желчь на это стадо бездушных существ.
— Браво, Мишенька!
— Между прочим, Николай, Чаадаев не любит признавать превосходство других.
— Не твое ли, друг мой?
Мишель не ответил и стал напевать мелодию из «Роберта-Дьявола». Потом с высоты своего роста наклонился над погрустневшим Белинским и вкрадчиво произнес.
— А знаешь ли, Висяша, что господин Чаадаев готовит для тебя сюрприз.
Виссарион вскинул глаза.
— Для меня?
— Он работает над «Философическими письмами», кои намерен разместить, вероятно, в «Телескопе» Надеждина.
— У нас? В каком нумере, он не сказывал? Это загодя делается. Я бы знал.
— Значит, еще не готово. У нас была длительная беседа. Мы простились далеко заполночь.
— Означает ли это, что тебя-то, Мишель, он отличил? — Станкевич весело блеснул глазами.
— И все потому, что я, подобно Коту Мурру, кушал с большим аппетитом, — отшутился Бакунин.
— Умеешь ты, Мишенька, явиться с лучшей стороны и не ударить в грязь лицом, — хлопнул его по спине Белинский, подымаясь.
Часы пробили полночь.
— Пора по домам? До завтра, Николай!
Слуга вышел посветить им за дверью. Они спустились по лестнице со второго этажа и вышли на Дмитровку. Редкие фонари тускло освещали темную рыхлость мартовских сугробов, замешанную вместе с конским навозом. Завернутая в теплый плащ длинная фигура Бакунина и низкорослый Белинский в картузе и еще в студенческой шинели двинулись вниз, чтобы разойтись на Петровке. Первому — насквозь вниз и вверх, к Мясницкой на Басманную, другому тут же, в переулок.
— Висяша, не надобно ли тебе денег? — спросил Мишель. — Мне прислали. Сколько хочешь?
— Сколько можешь?
— Сто пятьдесят рублей.
— Ого! Давай. На какой срок?
— Бесконечность.
Они расстались. Белинский заспешил на свою квартиру к двум братьям, которых выписал из дома, из Чембара, чтобы оградить от семейного безобразия и подготовить в университет. Уроки истории давал им сам Станкевич, грамматику и словесность втолковывал Виссарион, математике учил Бакунин. Отроки были бойкие, но запущенные, уже познавшие вкус вина и хмельного разгула. Кроме статей, рецензий, уроков и прочего, Белинский составлял учебник «Грамматики русского языка», где вводил собственные разделы и деления, и который намеревался издать за хорошие деньги. Деньги, деньги… О, как он знал им цену! Но знал и себя, собственные загулы со швырянием денег целовальникам и румяным московским девкам.
Мишель отшагал уже половину пути, поднявшись к Лубянским улицам, на Мясницкую. Что-то странное происходило в нем. Все было смешано в душе, мысли, чувства и чувственность, как будто он возвратился в первобытный хаос мироздания. Все превратилось в болезненное страдательное положение. В его существе вдруг очутился какой-то нежданный, непонятный объект, а субъект уже начал сбиваться. Туманом и болью заволоклось существование, но бежать было можно, и мыслить тоже. Кое-как добравшись до своей комнаты, он выпил подряд несколько рюмок вина. Объекта и субъекта не стало.