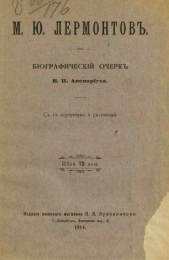Лермонтов
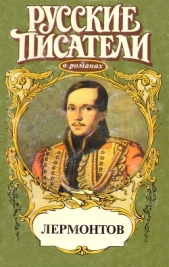
Лермонтов читать книгу онлайн
Произведения, включённые в книгу, посвящены Михаилу Юрьевичу Лермонтову и охватывают всю жизнь великого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мишель молчал. Что мешало ему, как почти всегда, следовать за Святославом с одинаковым пылом? Возможно, запавшие в память, слышанные от кого-то скептические слова Грибоедова: сто прапорщиков хотят изменить порядок вещей. Или как-то похоже. Ведь не из первых уст, через десятых лиц слышал, переврали, не поняли. А он, Мишель, кажется, понял.
— Слава, — сказал после колебания тихо, но настойчиво, принуждая себя не отводить глаз, хотя ему было бы больно видеть растерянность или смятение друга, единственного своего товарища не по крови, не по обстоятельствам, а по душе. — Как ты можешь не бояться революции, если всё семейство твоего прадеда убито пугачёвцами при мужицком бунте, а бабушку, тогда ещё несмышлёного ребёнка, уберёг лишь случай?
Вот он и высказал это. То, что держал на сердце, да всё не осмеливался выговорить вслух.
Раевский не изменился в лице, даже не смутился нимало. Ответил тотчас, словно давно продуманное:
— Раболепство и покорливость в человеке надобно презирать. Но когда они становятся чертами народа, на это надлежит взглянуть проницательно и со стороны, как смотрит отдалённый во времени летописец. Русскому мужику поют уже над колыбелью, чтоб боялся сильного, кланялся пониже: сила, мол, соломинку ломит. Страшная философия, Мишель! Выдь в Тарханах на мир, кликни посреди деревни: добра вам хочу, люди! Не поверят, засмеют, вязать примутся. Ненавидят у нас смутьянов.
— За что же?
— За то, что те чище душой, что совестно перед ними. Так лучше вовсе не слушать, спокойнее выдать на расправу...
— Ты не про то. Слава.
— Про то. Если вор Емелька взбаламутил совесть народную, пусть кроваво, пусть безжалостно, за это ему поклон. Пример это, пойми, Миша! Начало пробуждения.
— Но твой дед? Убиенный?!
— Деду своему я внук. Народу — сын.
Лермонтов глубоко задумался, вперил глаза в пол.
— Прости за этот разговор.
— Давно его ждал. Сам до этого дошёл в своих размышлениях, и ты должен был дойти.
— А нам-то что делать. Слава?
— Бог весть. Ждать. Мне ходить в департамент, тебе служить в полку.
— Шутишь?
— Нимало. Я не знаю, вот и всё. Подойдёт случай, даст Бог, не струшу, найду своё место. А пока — ведать не ведаю. Да и что мы знаем о своём народе? Ни песен, ни говора его. Собрать бы побольше пословиц, сказок послушать. Не тех, что по приказу барыни сказывают ей на ночь, при бессоннице, а чем детушек своих стращают и радуют. Ещё в университете жажда меня одолела, а пуще чувство бедности своей, незнанья...
— Ужинать пожалуйте, — раздался за дверью голос Дарьюшки, бабушкиной любимки и наушницы. — Барыня в столовой ждут.
Святослав быстро взглянул на младшего товарища:
— Слышала?
Мишель пренебрежительно махнул рукой:
— Подлянка, но дура. Куда ей понять!
Оба поднялись с некоторым облегчением: трудный разговор остался позади.
Кроме бабушки в её неизменном батистовом чепце старого покроя за столом сидел Акимушка Шан-Гирей [27]. Он уплетал за обе щеки свежие ватрушки и обстоятельно, с оживлением рассказывал бабушке происшествия дня.
С тех пор как Миша Лермонтов увидал в Горячеводске шестилетнего троюродного братца, они уже почти не расставались. Аким годами жил в Тарханах, учился в бабушкином «пансионе», затем переехал к ним в Москву, на Молчановку. Добросовестно таращил глаза, слушая стихи к таинственной Н. Ф. И., оставшись на всю жизнь в уверенности, что Мишель всё это «списывал с Байрона», а никаких привязанностей, кроме Вареньки Лопухиной, у него не было.
Приехав в Петербург поступать в Артиллерийское училище (скромному отставному кавказцу содержать сына в гвардии было не по карману), он со значительным видом передал от Вареньки привет. «Скажи, что я спокойна и счастлива» — вот её слова на прощание.
Мишель выслушал как-то небрежно, отворотившись. Аким попенял ему на бесчувственность, тот отозвался с напускной важностью:
— Ты ещё ребёнок и ничего не понимаешь.
Акимушка и в самом деле не понимал. Даже в письмах к Марии Лопухиной, позволяя себе болтать обо всём на свете, о Вареньке Мишель справлялся обиняком, не называя имени.
Ординарная дюжинная душа томилась бы разлукой с досадливостью, спеша как-нибудь её избыть: пропить, проплакать, проспать, что ли! Но Мишель (сам себе удивляясь) ощущал в долгой разлуке с Варенькой не только разумную предначертанность, но и своё тайное блаженство: наполненность души была богаче именно теперь, а не в счастье, не в возможном свершении любви. Так уж получалось у него: минуты радостей и удач быстро вызывали скуку. Лишь страданье давало взлёт и прозорливость чувствам. Господи, да возможно ли такое: быть счастливым от печали?! Но что такое счастье? Я жить хочу, чтоб мыслить и мечтать... Мечтать? Уходить в одиночество? Конечно. Только одиночество позволяет углубиться в себя, будто в колодец заглянуть... Нет, у Пушкина иначе: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»
Но тогда — что такое страдания? Страдать — вовсе не хныкать, не сожалеть. Страда — труд. Мужики называют страдой дни жатвы. Страдание — жатва души...
Первые дни после поразившего его известия о её замужестве он ничего не мог с собою поделать: глаза поминутно наполнялись слезами; он должен был отворачиваться, спешить тайком к умывальнику, чтобы не распухали и не краснели веки.
Как всегда, в доме стояла толкотня от родственников и приятелей. Спасаясь от проницательности чужих глаз, он теперь охотнее задерживался в Царском Селе. Даже брал дежурства вне очереди. Хорошо, что бабушка уже уехала в Тарханы. А штабс-капитан Алексей Григорьевич всё более погружался в свои матримониальные планы относительно княжны Марии Трубецкой и бывал в их общей квартире редко.
Зато зачастил любезный друг Монго, который с нетерпением донашивал юнкерский мундир, ожидая скорого производства в офицеры. Он обожал поваляться у Мишеля на мягком диване, полакомиться домашними сластями. Его безоблачное наивное себялюбие никогда не переходило границ и не обижало. При нужде он мог быть отзывчивым и даже добрым.
— Ты мрачен, Мишель? — спросил Монго, сбрасывая шинель небрежным движением. Лицо Лермонтова, изжелта-бледное, мелькнуло перед ним в отражении зеркала. Алексей Аркадьевич обернулся, чуть нахмурившись. Он был привязан к Лермонтову. Приходился ему двоюродным дядей, хотя и был моложе. — На кого-то дуешься?
— Я... несчастен, — упавшим голосом пробормотал Лермонтов.
Эти простые слова, а ещё более тон без обычной едкости и подтрунивания не на шутку встревожили Столыпина. Он был добрый малый, а кроме того, эгоистически не выносил вокруг себя страданья.
— Давай потолкуем, — участливо сказал он, присаживаясь рядом. — Поведай, что стряслось? Всё можно изменить и поправить к лучшему.
— Не всё.
Лермонтов протянул московское письмо о замужестве Вареньки Лопухиной. Монго пробежал его глазами. Лопухину он не знал. Разве только по многим стихам Мишеля. Но, как и все в семье, он считал эти стихи данью байронической моде, когда молодому человеку прилично чувствовать себя обуреваемым страстями и несчастным от них.
Он взглянул на Лермонтова чуть виновато, впервые прозревая правду.
— Она так много значила для тебя? — озадаченно спросил он.
Лермонтов молча кивнул. Все эти дни горло ему то и дело перехватывало спазмой.
— Вы хоть объяснились тогда, в Москве? Пообещали что-то друг другу?.. — И на второй безмолвный кивок вдруг взорвался благородной досадой: — Сам кругом виноват! Уехал на два года. Писал ей?
— Нет. Только сестре.
— Велико утешение для бедной девочки! Она вправе была решить, что ты её позабыл вовсе. А тут ещё злосчастный фарс с мадемуазель Сушковой! Ты так хитроумно оттасовывал её от братца твоей Вареньки, тот, по слухам, сулил с тобою стреляться...
— Эта женщина злая, я обязан был оградить от неё Алёшу! — вскричал Лермонтов, прижимая руку к болезненно бьющемуся сердцу.