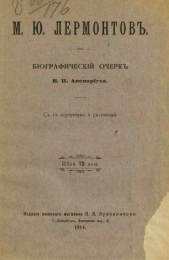Лермонтов
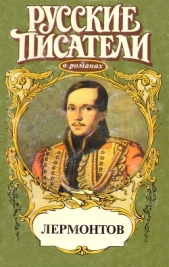
Лермонтов читать книгу онлайн
Произведения, включённые в книгу, посвящены Михаилу Юрьевичу Лермонтову и охватывают всю жизнь великого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лермонтов слушал очень внимательно, потупившись и хмурясь.
— От какого же толчка возникнет перелом в такой душе? Появится свой взгляд на жизнь?
— Может быть, сильная любовь? Или внезапная потребность стихотворства? — предложил не очень уверенно Раевский, мысленно оглядывая бледную вереницу юнцов, которых только что обрисовал.
Лермонтов в некотором нетерпении барабанил пальцами.
— Нет, Слава. Настоящую искру способна выжечь только обида. Зависть сама по себе малосильна. Непереносимое оскорбление — вот удар по кремню.
Его воображение уже заработало. Он представил слякотные петербургские сумерки и молодого человека в волглой шинели, бредущего после служебного присутствия домой, в какую-нибудь дурно отапливаемую каморку. А между тем этот человек красив, пылок и полон тщеславия. Что может вызвать в нём энергию ненависти? Не рысак ли какого-нибудь барина, баловня судьбы, обдавший его в своём равнодушном беге комьями грязи? В такой миг, почти случайный, станет наглядна и особенно непереносима для гордого сердца пропасть между сословиями.
Раевскому понравился план завязки.
— Принимайся за повесть, — сказал он. — Столкни две касты, два чувствования. Это будет новым в нашей словесности.
— Если ты мне поможешь. Будем писать вместе?
— Изволь.
Однако следующий день увёл от этого намерения. На костюмированном вечере в доме богача Энгельгардта [26], что на Невском проспекте, случилось происшествие, которое толкнуло фантазию совсем в другую сторону: некая дама, скрыв себя маской, подарила маскарадному знакомцу браслет и была узнана по этой вещице!
У Энгельгардтов веселились всякую неделю, а на святках и масленой ежевечерне. В роскошно обставленных залах с бронзовыми люстрами, на мраморных лестницах и по яркому паркету скользили гости в «капуцинских» плащах. Цена входного билета по пяти рублей собирала публику довольно разношёрстную. Все говорили друг другу «ты», женщины смело интриговали мужчин, в боковых кабинетиках назначались мимолётные свидания. Даже когда появлялся царь, было принято делать вид, что он не узнан. Как и его дочери Мария и Ольга, одетые в розовое и голубое домино.
Лермонтов знал нравы маскарада. И он иногда толкался в разгорячённой толпе. «Ты кого-то ждёшь? Не меня ли?» — «Как тебя зовут, маска?» — «Угадай сам». — «Мы увидимся ещё раз?» — «Если хочешь». — «Где?» — «Ах, мой Бог! В чьей-нибудь гостиной. Может быть, в театре. Или у кухмистера на Васильевском острове. Узнай меня!» — «До кареты проводить?» — «Это против правил. Прощай!» Вот и всё. Бесстыдно и весело, как лёгкий хмель.
Бабушке казалось, что внук упивался развлечениями (в двадцать один-то год!), а он, не понятый ею ни в чём и никогда, на канве обычной сплетни гостиных уже вышивал трагический узор. В свете зло всегда побеждает добро, и самому мощному уму нет выхода из роковых заблуждений! Героя звали Арбениным. Другие имена — Штраль, Звездич, Шприх — он взял из модных тогда повестей. Лермонтов никогда не чурался готовых находок: что из того, что об этом говорил уже другой? Лишь бы сказал хорошо. Он добивался одного: предельной выразительности собственной мысли.
Волна вдохновения полностью захлестнула его. Он набрасывал драматические сцены где придётся: в караульном помещении казармы, за шахматной доской между двумя ходами, даже пируя с однополчанами под цыганский хор!
— Мишель! — окликнул Раевский, поглядывая на друга испытующе. Он перебелял рукопись «Маскарада» и вдруг отбросил перо, поражённый внезапной мыслью. — Разве тебе решительно не по сердцу твой Арбенин?
— Почему же? Люблю его как самого себя. Иногда мне кажется, что это и есть я сам, только в какой-то другой жизни.
— Но тогда... воля твоя, я не понимаю! Он же шулер?!
— Конечно, — спокойно отозвался Лермонтов. — А что тебя удивляет?
— Именно это, чёрт побери! Зачем понадобилось делать героя, своего двойника, как ты говоришь, карточным мошенником?
— А кем он ещё может быть в нашем обществе? Разве в свете процветает честность? Благородный человек не имеет ни малейшего шанса. Будь Арбенин другим, не видать ему ни богатого дома, ни жены-красавицы. А без Нины какой сюжет?!
— Гм, он-то сам понимает это?
— Конечно. Ты же помнишь его монологи? Полон презрения к другим, да и к самому себе. Нет, он просто не может быть иным!
— Теперь уразумел. — Перо Раевского снова заскрипело по бумаге.
«Одно мне в диковинку, — подумал он про себя. — Откуда ты-то, милый друг, додумался до всего этого? Барчук, баловень от рождения...»
Лермонтов словно подслушал его мысль.
— Я не изобрёл ничего нового. Многие люди общества начинали сходно. Ты Карамзина считаешь почтенным человеком?
— Разумеется. — В голосе Раевского чувствовалась озадаченность.
— Представь, отец многотомной «Российской истории» в молодости несколько лет кормился карточной игрой.
— Ты что же, с него списал Арбенина?
— Нет. Совпало. А про Карамзина узнал недавно, из пересудов в бабушкиной гостиной.
— Не важно, с чего человек начал, — буркнул Раевский. — Важно, к чему он пришёл.
— Да-а... будущее моего Арбенина не сходится с карамзинским. Как и я не усидел бы двенадцать лет за письменным столом. Скучища!
Раевский снисходительно пожал плечами: Мишель опять стал похож на избалованного сорванца.
Но Лермонтов мысленно уже погрузился в мир своих героев. Нина погибла, а ему было жаль Арбенина! Ни на кого из них он не смотрел уличающе. Уличать — немного подсматривать в щель: ага, вот ты каков на самом деле! Он не злорадствовал. Любое явление, как и любое лицо, представлялось ему крупным, достойным открытого чувства уважения, ненависти, презрения, отчаяния. Его любовь к людям выражалась в печали. Никогда — в радости.
А между тем он не был мизантропом, он обладал здоровым зрением и видел мир в реальном свете.
...Таким образом и получилось, что история Печорина и Лизаветы Негуровой (иначе — Катишь Сушковой) отодвинулась почти на полтора года. Но не была им забыта.
Лермонтов постоянно возвращался к одним и тем же образам и сюжетам не потому, что не мог в силу какой-то загадочной заторможенности двинуться дальше. Он поражался чему-то и доискивался до причины удивления. Был неутомим и безжалостен к себе.
С отроческих лет в нём жила неосознанная гордость большого таланта: он не заботился об оригинальности. Единственная забота была о том, чтобы полнее воплотиться, передать вовне как можно больше из внутреннего запаса. А жизнь сама неустанно пополняла этот запас!
На раннюю Пасху, в апреле, над Петербургом пронёсся буран. Свирепо затрещал мороз. Бездомные погибали на улицах. Основательно прозябнув в открытых санях, несмотря на медвежью полость, Лермонтов только что прикатил на Садовую из Царского Села после суточного дежурства и теперь, сидя с Раевским за шахматами, дожидался ужина.
Слуга топил печи. Гудящее пламя — то же колдовство, прообраз человеческой жизни: чем яростнее полыхает, тем короче срок.
Слуге родина не Тарханы, а захудалое Кропотово. Бедное, впрочем, только для господ. Дворовые до сих пор поминают своё непритесняемое крестьянское житьё при покойном барине.
Мал был Мишель, когда бабушка вершила его дела. А может, следовало осесть в отчем доме, бок о бок с тётушками? Не снимать с насиженных мест крепостных людей?
Пламя трещит, струится синими и жёлтыми язычками. Зима на исходе, а снег такой густой, прямой и плотный, словно это белый дождь. И, как от дождя, шуршанье по стёклам. Город почти не виден. Лишь чёрные галки на крестах и воротах.
— Так ты ждёшь бунта, Слава? — спросил Мишель, продолжая разговор.
Спросил не с безмерным удивлением, как, может быть, ждал от него приятель, уверенный, что поразил его своим вольнодумством, а спокойно-сомневающимся тоном.
— Нет, не бунта. Революцию, — отозвался Раевский. Слово «бунт» он произнёс по-русски, а «революция» — по-французски. — Сенатская площадь — высокий образец благородства!