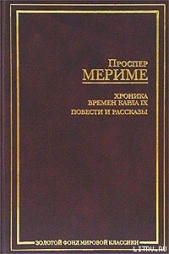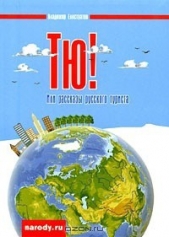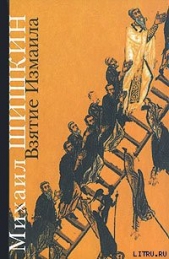Три прозы. Взятие Измаила; Венерин волос; Письмовник

Три прозы. Взятие Измаила; Венерин волос; Письмовник читать книгу онлайн
Михаил Шишкин — известный прозаик, чья литературная биография опровергает привычное мнение, что интеллектуальная проза — достояние узкого круга читателей. Москвич по рождению, последние годы живет в Швейцарии, выпуская в свет по одному роману в пять лет — и каждый становится событием.Его романы "Взятие Измаила", "Венерин волос", "Письмовник" удостоены престижных премий "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер", имени И.А.Бунина; первая премия портала "Имхонет" в категории "Любимый писатель". Проза Шишкина сочетает в себе лучшие черты русской и европейской литературных традиций, беря от Чехова, Бунина, Набокова богатство словаря и тонкий психологизм, а от западных авторов — фрагментарность композиции, размытость временных рамок. По определению самого писателя, действие его романов происходит всегда и везде.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Понимаешь, Сашенька, я жил в какой-то отчужденности от жизни. Между мной и миром оградой выросли буквы. На происходившее со мной я смотрел только с точки зрения слов – могу я это взять с собой туда, на страницу, или нет. Я знал теперь, что ответить давно сгнившим мудрецам: мимолетное обретает смысл, если поймать его на лету. Где вы, мудрецы, ау? Где видимый вами мир? Где ваше мимолетное? Не знаете? А я знаю.
Казалось, что мне открылась истина. Я вдруг почувствовал себя сильным. Не просто сильным, а всесильным. Да, Сашка, смейся надо мной – я ощутил себя всемогущим. Мне открылось то, что было закрыто для незнающих. Мне открылась сила слова. По крайней мере, тогда так казалось. Через меня замкнулась очень важная цепь, может быть, самая важная, которая шла от того реального человека, пусть потливого, с дурным запахом изо рта, левшой, правшой, мучимого изжогой, неважно, но такого же реального, как ты и я, который написал когда-то: «В начале было слово». И вот слова его остались, а он – в них, они стали его телом. И это единственное реальное бессмертие. Другого не бывает. Все остальное – там, в яме с кладбищенскими испражнениями.
Через слова протянулось от того человека ко мне то, что сильнее и жизни, и смерти, особенно если понять, что это одно и то же.
Представляешь, с каким удивлением я смотрел на окружающих. Как они могут быть? Почему они, не будучи подвешены на этой цепочке над смертью, не падают? Что их держит?
Для меня было очевидно, что древнейшее правещество – чернила.
Златоусты всех времен и народов уверяли, что письмо не знает смерти, и я им верил – ведь это единственное средство общения мертвых, живых и еще не родившихся.
Я был убежден, что мои слова – это то, что останется после того, как все сегодняшнее, мимолетное сбросят в выгребную яму на бабушкином кладбище, и потому написанное мной – это самая важная, самая главная часть меня.
Я верил, что слова – это мое тело, когда меня нет.
Наверно, нельзя так любить слова. Я любил их до одури. А они за моей спиной перемигивались.
Они надо мной смеялись!
Чем больше я перекладывал себя в слова, тем очевиднее становилось бессилие что-то словами выразить. Вернее, так – слова могут создать что-то свое, но ты не можешь стать словами. Слова – обманщики. Обещают взять с собой в плавание и потом уходят тайком на всех парусах, а ты остаешься на берегу.
А главное – настоящее ни в какие слова не влезает. От настоящего – немеешь. Все, что в жизни происходит важного, – выше слов.
В какой-то момент приходит понимание, что если то, что ты пережил, может быть передано словами, это значит, что ты ничего не пережил.
Я, наверно, очень путано все говорю, Сашенька, но все равно мне нужно выговориться. И знаю, что, как бы я ни путался, ты меня поймешь.
Я про тщетность слов. Если не чувствовать тщетности слов, то, значит, ты ничего в словах не понимаешь.
Попробую объяснить это вот так: помнишь, я писал тебе, что когда-то на переменке, начитавшись, как средневековые шуты изводят своих сеньоров-недоумков каверзными вопросами, я попробовал посмеяться таким же образом над моим мучителем из старшего класса, а тот, недослушав моей витиеватой фразы, привычно хлопнул меня по ушам. Так вот, златоусты с их упованием на продление себя во времени – это такие же глупые начитанные мальчики, как я, пытающиеся всю свою жизнь заговорить витиеватыми разговорами смерть, а она в конце концов, недослушав, все равно хлопнет их по ушам.
Помнишь, я никак не мог убедить тебя, что любая книга – ложь, уже хотя бы потому, что в ней есть начало и конец. Нечестно поставить последнюю точку, написать слово «конец» – и не умереть. Мне казалось, что слова – это высшая истина. А оказалось – какой-то фокус, мошенничество, ненастоящее, недостойное.
Я дал себе зарок больше ничего не писать. Мне казалось, что это достойно.
Сашенька, и никто ведь не объяснит, пока в каком-нибудь неподходящем месте само вдруг не откроется, что на вопрос кто я? ответа не существует, потому что нельзя знать ответ на этот вопрос, можно только быть им.
Понимаешь, мне захотелось быть.
Я не был собой. Слова приходили – и я чувствовал себя сильным, но я не мог им сказать – приходите! И они оставляли меня пустым, никчемным, использованным, выбрасывали на помойку.
Я ненавидел себя слабого и хотел быть сильным, но каким мне быть – за меня решали слова.
Сашенька, пойми, я больше так не мог! Ты все время думала, что дело в тебе, – нет!
Я должен был освободиться от них. Почувствовать себя свободным. Живым просто так. Я должен был доказать, что существую сам по себе, без слов. Мне нужны были доказательства моего бытия.
Я сжег все написанное – и не жалел об этом ни минуты. Ты ругала меня, но напрасно. Родная, не ругай меня, пожалуйста! Мне нужно было измениться, стать другим, понять то, что понимают все, кроме меня, и увидеть то, что видит каждый слепой!
Мне не дано умереть и родиться другим – у меня есть только эта жизнь. И я должен успеть стать настоящим.
И знаешь, что странно – те тетради давно превратились в пепел, но себя того, прошлого, я начинаю сжигать только здесь и сейчас.
Ты знаешь, это ведь я слепой был. Видел слова, а не сквозь слова. Это как смотреть на оконное стекло, а не на улицу. Все сущее и мимолетное отражает свет. Этот свет проходит через слова, как через стекло. Слова существуют, чтобы пропускать через себя свет.
Ты улыбнешься: конечно, вылитый я – дал слово ничего больше никогда не писать, а теперь думаю, что, когда вернусь, может быть, напишу книгу. А может, и не напишу. Неважно.
То, что я сейчас испытываю, – намного важнее сотен и тысяч слов. Скажи, как можно передать словами эту готовность к жизни, которая меня переполняет?
Сашенька моя! Еще никогда я не чувствовал себя таким живым!
Выглянул на минуту – лунная ночь, небо яркое, звездное и очень похожее на счастье. Прошелся, потирая уставшие пальцы.
Изумительная ночь. Такая луна – читать можно. Блеснула на штыках. Палатки светятся лунным светом.
Тишина замечательная, ни звука.
Нет, отовсюду звуки, но такие мирные, чудесные – лошадь цокнула, храп из соседней палатки, в лазарете кто-то зевнул, цикады на тополях стрекочут.
Стою и вглядываюсь в Млечный Путь. Теперь всегда сразу вижу, что он делит мироздание наискосок.
Стою под этим мирозданием, дышу и думаю: вот, просто луна, оказывается, может сделать человека счастливым. А я столько лет искал доказательств собственного бытия!
Какой я невозможный дурак, Сашка!
К черту луну! К черту доказательства!
Сашка моя родная! Какие еще нужны доказательства моего бытия, если я счастлив из-за того, что ты есть, и любишь меня, и читаешь сейчас эти строчки!
Знаю, что написанное письмо все равно как-то дойдет до тебя, а ненаписанное – исчезнет бесследно. Вот и пишу тебе, Сашенька моя!
♥
Иду вчера от остановки и уже издалека вижу ее – мне навстречу.
Перехожу на другую сторону – и она тоже.
Идет прямо на меня. Останавливаемся лицом к лицу.
Причесанная, ухоженная, выглядит намного моложе. Будто другая женщина. Волосы зачесаны наверх, уши видны – со сросшейся мочкой.
Молчит. Веко у нее вдруг начинает нервно трепетать.
Говорю ей:
– Добрый день, Ада Львовна!
Веко подергивается.
– Александра, мне надо с вами поговорить. С тобой. Ты должна меня выслушать. Мне надо рассказать.
А я ей:
– Не надо.
Не надо мне ничего рассказывать, Ада Львовна!
Я все знаю.
Муж объелся груш.
А за много лет до этого жена мужа думала: кому я такая нужна?
Когда набухло вокруг сосков, обрадовалась, а то уже вымахала и все еще ничего нет. Выглядела, как восьмилетняя гулливерша.
О Гулливере задумалась – как же он какал? И что бедные лилипуты делали со всем этим? Один раз пописал, и хватило на то, чтобы затушить целый пожар. Ведь в какие горы превращались ежеутренне все эти быки, коровы, бараны! Вдруг ощутила какую-то большую неправду, но не оттого, что не бывает таких больших людей.