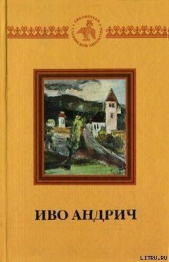Травницкая хроника. Мост на Дрине
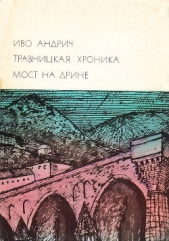
Травницкая хроника. Мост на Дрине читать книгу онлайн
Трагическая история Боснии с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыта в двух исторических романах Андрича — «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине».
«Травницкая хроника» — это повествование о восьми годах жизни Травника, глухой турецкой провинции, которая оказывается втянутой в наполеоновские войны — от блистательных побед на полях Аустерлица и при Ваграме и до поражения в войне с Россией.
«Мост на Дрине» — роман, отличающийся интересной и своеобразной композицией. Все события, происходящие в романе на протяжении нескольких веков (1516–1914 гг.), так или иначе связаны с существованием белоснежного красавца-моста на реке Дрине, построенного в боснийском городе Вышеграде уроженцем этого города, отуреченным сербом великим визирем Мехмед-пашой.
Вступительная статья Е. Книпович.
Примечания О. Кутасовой и В. Зеленина.
Иллюстрации Л. Зусмана.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Давиль решил все же напечатать свою поэму, хотя и с колебаниями и без уверенности как в пользе своих стихов, так и в длительности побед. Это чувство неуверенности, тогда только начавшее распространяться среди людей, в душе Давиля вырастало в личное горе.
В таком сложном и тяжелом душевном состоянии Давиль прибыл в качестве консула в Травник. То, с чем он столкнулся здесь, не могло ни ободрить, ни успокоить, а, наоборот, только еще больше взбудораживало и волновало.
Все пережитое с новой силой всколыхнулось в Давиле при первой же встрече с молодым человеком, с которым предстояло ему теперь совместно жить и работать. Наблюдая за тем, как просто он держит себя, как смело и легко обо всем судит, Давиль думал про себя: «Не то страшно, что мы стареем, слабеем и умираем, а то, что нас догоняют и сменяют новые люди, молодые и совсем иного склада, чем мы. В сущности, это и есть смерть. К могиле не тянут, а подталкивают сзади». Консул сам подивился таким мыслям, вовсе не соответствовавшим его обычному складу мышления, и сразу их отбросил, приписав их «восточному яду», который рано или поздно должен подействовать на каждого и уже, как видно, начал проникать и в его мозг.
Этот молодой человек — единственный француз в здешней пустыне и единственный его настоящий сотрудник — был настолько во всем отличен от него (или, во всяком случае, так выглядело), что Давилю иногда казалось, будто он живет рядом с иностранцем и врагом. Но что больше всего беспокоило и раздражало его в молодом человеке — это отношение (вернее, отсутствие отношения) к «самому главному», что заполняло всю жизнь Давиля, — к королевской Франции, к революции и Наполеону. Эти три понятия представляли для консула и людей его поколения чрезвычайно запутанный клубок столкновений, взлетов, увлечений, светлых подвигов, но вместе с тем и колебаний, скрытого неверия, тайных сделок с совестью без ясного решения, со все меньшей надеждой на длительное умиротворение; означали страдание, которое они носят в себе с самого детства и которое будет, по-видимому, сопутствовать им до могилы. Но в то же время и именно поэтому страдание это было близко и дорого им, как сама жизнь. Между тем молодой человек и его сверстники, как казалось Давилю, не видели во всем этом ни мучений, ни загадок, ни поводов для жалоб или размышлений. Для них это были простые и обыденные вещи, над которыми не стоило ломать голову и тратить много слов для их объяснения. Франция королей — сказка, революция — смутное воспоминание детства, а империя — сама жизнь, жизнь и карьера, естественное и ясное поприще неограниченных возможностей, действий, подвигов и славы. И действительно, для Дефоссе строй, в котором он жил, — империя, — представлял единую и единственную в своем роде реальность, в прямом и переносном смысле протянувшуюся от одного края горизонта до другого и исчерпывающую все содержание жизни. А для Давиля это был только случайный и неустойчивый порядок вещей, мучительное становление которого он когда-то пережил и видел собственными глазами и временный характер которого почти всегда сознавал. В отличие от Дефоссе он хорошо помнил то, что было до этого, и часто думал о том, чего еще можно ждать.
Мир идей, бывший для поколения Давиля подлинной духовной родиной и настоящей жизнью, для поколения молодых, по-видимому, не существовал вовсе; зато для них существовала «живая жизнь», мир вещей, ощутимых фактов и очевидных, измеримых успехов и поражений, некий новый страшный мир, раскрывавшийся перед Давилем как холодная пустыня, гораздо страшнее революции со всей ее кровью, страданиями и духовной ломкой. Это было поколение, взращенное на крови, лишенное всего и стремящееся ко всему, словно бы закаленное в огне.
Как все остальное, Давиль и это, несомненно, обобщал и преувеличивал под воздействием необычной среды и тяжелых условий. Он часто сознавался себе в этом, так как по своему характеру не любил противоречий и не хотел признавать, что они вечны и непреодолимы. Но перед ним в качестве постоянного напоминания стоял молодой человек с проницательным взглядом, холодный и чувственный, свободный и уверенный в себе, не отягощенный ни предрассудками, ни сомнениями, который видел вещи вокруг себя такими, каковы они есть, и дерзко называл их подлинными именами. При всех его способностях и доброте, это был человек нового, «анимализированного», как говорили сверстники Давиля, поколения. «Так вот каково дитя революции, свободный гражданин, новый человек, — думал Давиль после каждого разговора с молодым чиновником, когда оставался один. — Может быть, революции порождают чудовищ? — испуганно спрашивал он себя. И часто отвечал: — Да, зачинаются они в величии и моральной чистоте, а порождают чудовищ».
И тогда — по ночам — он чувствовал, что его одолевают черные мысли, грозя полностью овладеть им, и что он бессилен справиться с ними.
В то время как Давиль боролся с мыслями и настроениями, вызванными приездом молодого чиновника, этот последний записал о Давиле в своем дневнике, предназначавшемся для парижских друзей, только следующее: «Консул такой, каким я его себе представлял». А представление это сложилось у него по первым донесениям Давиля из Травника, а главное, по рассказам старшего коллеги в министерстве, некоего Керена, славившегося тем, что он знал всех чиновников министерства иностранных дел и мог в нескольких словах обрисовать более или менее точно «моральный и физический облик» каждого из них. Керен, человек проницательный и остроумный, не нашел применения своим талантам, и зарисовка устных портретов вошла у него в плоть и в кровь, превратилась в настоящую страсть. Он целиком предался этому бесполезному занятию, походившему иногда на точную науку, а иногда на обычную сплетню, и мог в любое время воспроизвести портрет каждого человека от слова до слова, будто весь текст был напечатан у него в голове. Этот самый Керен сказал Дефоссе о его будущем начальнике следующее:
— Жан Давиль появился на свет человеком прямолинейным, здоровым и — заурядным. По своей натуре, происхождению и воспитанию он был создан для обыкновенной, спокойной жизни без больших взлетов и тяжких падений, без резких перемен вообще. Растение умеренного климата. С врожденной способностью легко вдохновляться и увлекаться идеями или личностями, с особой склонностью к поэзии и поэтическому настрою души. Но все это не выходя за пределы счастливой посредственности. Спокойные времена и уравновешенные обстоятельства делают таких заурядных людей еще более заурядными, а бурные времена и великие потрясения создают из них весьма сложные характеры. Это произошло и с нашим Давилем, очутившимся в водовороте чрезвычайных событий. Все это, разумеется, не могло изменить подлинную его природу, но наряду с врожденными свойствами у него появились и новые, прямо им противоположные. Не будучи в состоянии и не умея быть бесцеремонным, жестоким, бессовестным или двуличным, Давиль, чтобы удержаться и защищаться, стал боязливо скрытен и суеверно осторожен. Из здорового, честного, предприимчивого и веселого он постепенно превратился в чувствительного, колеблющегося, медлительного, недоверчивого и склонного к меланхолии человека. А так как все эти качества были чужды его подлинной натуре, то у него получилось странное раздвоение личности. Короче, он один из тех людей, которые оказались своего рода жертвами великих исторических событий, так как не в силах были им противостоять, подобно некоторым исключительно сильным личностям, но и не могли с ними примириться, как поступает толпа. Это тип «жалующегося» человека, и до конца дней своих он будет жаловаться на все, даже на самое жизнь.
— Случай в наши времена весьма распространенный, — закончил Керен.
Вот так начиналась совместная жизнь этих двух людей со столь различными характерами. Невзирая на то, что осень была холодная и сырая, Дефоссе объехал город и его окрестности и со многими перезнакомился. Давиль представил его визирю и видным лицам в Конаке, но в остальном молодой человек действовал самостоятельно. Познакомился со священником из Долаца, отцом Иво Янковичем, человеком весом в сто четыре окки, но живым и остроумным. Встретился с иеромонахом Пахомием, бледным и строгим, служившим тогда в православном храме Михаила-архангела. Заходил и в дома травницких евреев. Посетил католический монастырь в Гуче Горе и завел там знакомство с монахами, снабдившими его сведениями о стране и народе. Собирался, как только растает снег, осмотреть старые селения и кладбища в окрестностях города. И уже через три недели сообщил Давилю о своем намерении написать книгу о Боснии.