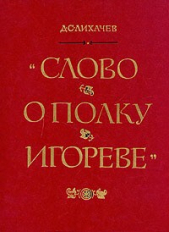Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонт
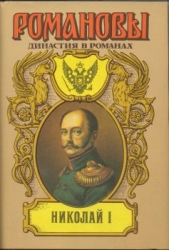
Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонт читать книгу онлайн
К. Большаков родился в Москве в семье управляющего Старо-Екатерининской больницей.
Стихи Большаков начал писать рано, с 14-ти или 15-летнего возраста. Примерно в это же время познакомился с В. Брюсовым. Еще гимназистом выпустил свою первую книгу — сборник стихов и прозы «Мозаика» (1911), в которой явственно чувствовалось влияние К. Бальмонта.
В 1913 г., окончив 7-ю московскую гимназию, Большаков поступил на юридический факультет Московского университета, и уже не позже сентября этого же года им была издана небольшая поэма «Le futur» (с иллюстрациями М. Ларионова и Н. Гончаровой), которая была конфискована. В издательстве «Мезонин поэзии» в этом же году был напечатан и стихотворный сборник поэта «Сердце в перчатке» (название книги автор заимствовал у французского поэта Ж. Лафорга).
Постепенно Большаков, разрывавшийся между эгофутуризмом и кубофутуризмом, выбрал последнее и в 1913–1916 гг. он регулярно печатается в различных кубофутуристических альманахах — «Дохлая луна», «Весеннее контрагентство муз», «Московские мастера», а также в изданиях «Центрифуги» («Пета», «Второй сборник Центрифуги»). Большаков стал заметной фигурой русского футуризма. В 1916 г. вышло сразу два сборника поэта «Поэма событий» и «Солнце на излете».
Но к этому времени Большаков уже несколько отдалился от литературной деятельности. Еще в 1915 г. он бросил университет и поступил в Николаевское кавалерийское училище. После его окончания корнет Большаков оказался в действующей армии. Во время военной службы, длившейся семь лет, поэт все же иногда печатал свои произведения в некоторых газетах и поэтических сборниках.
Демобилизовался Большаков в 1922 г. уже из Красной армии.
По словам самого Большакова, он«…расставшись с литературой поэтом, возвращался к ней прозаиком… довольно тяжким и не слишком интересным путем — через работу в газете…». До своего ареста в сентябре 1936 г. Большаков издал романы «Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова» (1928) и «Маршал сто пятого дня» (первая книга была издана в 1936 г., вторая пропала при аресте, а третья так и не была написана).
21 апреля 1938 г. Большаков был расстрелян.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проводить бедного Колю до места его последнего успокоения собралось столько народа, что пройти в зал было решительно невозможно. Владимир Петрович с трудом протискался в переднюю, ибо и на лестнице стояла публика.
Пастор говорил прощальное слово. Голос его, бархатистый и мягкий, словно душили низкие потолки и дыхание сгрудившихся в комнате людей. Бурнашёв стоял, прижатый к буфету. Две чёрные крупные цифры на листке отрывного висевшего в простенке календаря назойливо лезли в глаза.
«Двадцать семь. Сегодня двадцать седьмое», — почему-то повторял себе Владимир Петрович, хотя прекрасно помнил, что именно в этот день должны были состояться похороны.
Наконец пастор кончил говорить. Пронзительные вскрики и рыданья раздались в зале. Столпившаяся в дверях публика расступилась, давая дорогу кому-то, кого выводили под руки.
Заскрежетали ввинчиваемые в крышку винты. На лестнице торопливо надевали шляпы и теснились к выходу. Владимир Петрович тоже вслед за другими вышел на улицу.
Гроб вынесли на руках студенты, товарищи покойного.
Страусовые перья на траурном катафалке раскачивались, как листья каких-то экзотических растений. Факелы изломанными линиями чертили сумерки догоравшего дня. Гроб поставили на катафалк, процессия тронулась.
Николай Иванович, как это всегда бывает с потерявшими близких, вполголоса вспоминал все неосуществившиеся желания, несбывшиеся надежды покойного сына. Как будто теперь они приобретали иной смысл, иное значение — осуществись они, и не было бы этой нелепой безвременной смерти, жив бы был Коля и всё было бы хорошо. Даже артистическая карьера, которую предрекал покойному Пушкин, не казалась ему теперь ни невозможной, ни недостойной.
— А послано ли было приглашение Александру Сергеевичу? — вдруг озабоченно перебил он себя. — Ведь он так любил моего Колю.
— Послано, послано. И даже с нарочным, а не по городской почте, — поспешил успокоить его кто-то из родственников.
— А всё-таки его нет. Верно, пишет новую поэму, — жёлчно выговорил Греч. — Да, только Александр Сергеевич Пушкин, которого так боготворил мой мальчик, — проговорил он с горькой иронией, — о котором он только и думал в последние свои минуты, не захотел почтить нас сегодня своим присутствием. Что ж, эти господа аристократы не считают нас такими же, как они, людьми. На наши чувства, на наши страдания им дозволительно и плюнуть.
В этот момент в толпе произошло какое-то смятение. С трудом протискавшийся навстречу ей в церковь молодой человек с лицом растерянным и убитым поравнялся с Гречем. Подняв руку, словно хотел остановить движение, он закричал срывающимся, взволнованным голосом:
— Николай Иванович! Не грешите на бедного Пушкина, не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да, да — он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не смогли вынуть.
Ропот ужаса и негодования пронёсся в толпе. Слышались отдельные голоса:
— Кто смел поднять руку на Пушкина! Не может быть, чтобы это был русский человек!
Тот же голос, который только что сообщил эту ужасную весть, крикнул так громко, что слышали решительно все:
— Убийца — француз Дантес, офицер нашей гвардии и полотёр в аристократии!
На улице сумерки сгустились в чернильную тьму. Траурные факелы вокруг катафалка пылали мрачным, багровым пламенем.
II
Вся Мойка была запружена густыми толпами народа.
Конные и пешие жандармы вместе с полицейскими тщетно уговаривали публику не толпиться и разойтись.
Сажён за пятьдесят, по крайней мере, от дома Волконской, в котором жил Пушкин, Бурнашёву пришлось выйти из саней и пойти пешком. Дальше проехать было невозможно.
Проникнуть в дом не стоило и пытаться. Двое полицейских и жандармский офицер стояли у самых дверей, не пропуская решительно никого.
В дверях показалась полная фигура. Из-под распахнутой шинели блестел генеральский мундир.
Владимир Петрович, которому был известен чуть ли не весь Петербург, узнал в генерале состоявшего при особе наследника Юрьевича.
Садясь в поданные к подъезду сани, генерал бросил кому-то из толпы отрывисто:
— Надежда плохая. Я сам не видел, но Василий Андреевич в отчаянии. Еду во дворец рассказать его высочеству всё, что знаю.
Кто-то совсем близко от Бурнашёва пронзительно вскрикнул и зарыдал. Сани с Юрьевичем тронулись, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе.
Через минуту от неистового «пади, пади» толпа шарахнулась и расступилась, давая дорогу другим парным саням с пристяжной на отлёте.
Из подъезда выбежал лакей в придворной красной ливрее и крикнул:
— Карету лейб-медика Арендта!
Придворная карета парой, с кучером, одетым в одинаковую с лакеем ливрею, двинулась к подъезду.
Маленький толстый человечек в чёрной шинели с бобровым воротником и в казавшемся на нём невероятно огромным цилиндре появился в подъезде.
— Ну что, ваше превосходительство? — с тоскливым отчаянием крикнули ему из толпы.
Арендт с минуту растерянно озирался по сторонам. Он сдвинул на лоб очки, глаза его были красны. Прикладывая к ним платок, прерывисто, словно его мучила одышка, проговорил:
— Ну, то, что плохо. Вся наша медицина ничего не сделает без помощи Царя Небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца.
Толпа глубоким слитным вздохом ответствовала на слова Арендта.
III
Эта ночь, как и предыдущие, прошла тяжёлым, ломающимся бредом.
Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Казалось, даже не отстранил ни на миг не оставлявшие его мысли. Было такое ощущение — вот он ходит по комнате; над ковром, всего на каких-нибудь пол-аршина, протянуты в беспорядке верёвки и верёвочки, переступил одну — ноги уже задевают другую, не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная.
Рядом — спальня жены. Через полуприкрытую дверь в комнату проникает запах её sachet [24]. Этим запахом пахнет её ночное бельё, пахнет она сама, — незабываемый; он мешается с запахами, присвоенными его половине: сухим — туалетной воды, горьковатым и вялым — который оставляет только дыханье, ибо в спальне теперь он не курит; эти два — основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один с другим. Но, помимо их, есть и пришлые, непостоянные: причудливо острый — «La reine Marie Louise» [25] парижского парфюмера Houbigant; тяжёлый, дурманящий, он скоро пропадает от душной ночной тишины.
Евгений Петрович порывистыми шагами подошёл к туалетному столу, уксусом смочил виски, тёр их крепко и долго. Потом плеснул из таза в ладонь воды, смочил лоб и волосы. Лицо горело.
Запахом «La reine Marie Louise» благоухала лестница в Аничковом, когда они всходили на новогодний маскарад.
— Это было до… до…
Евгений Петрович даже себе не решался сказать, до чего это было.
Вся жизнь разделилась теперь на две неравные половины. Всё, что случилось, всё, что пережил он до этой новогодней ночи, жило бессмертной, переполненной чувствами, как тело — кровью, жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, как плющ, со всех сторон обхватывающий какого-нибудь лесного гиганта, тянулись, давя и сжимая сердце, мучительные, тяжкие мысли.
Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли кто-либо мог упрекнуть его в этом. Ни одним словом, ни одним намёком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Фёдоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотел и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят: оно выдержано там-то, говорят: оно воспитано.
Этот токай был польского воспитания, свадебный подарок дяди Исленьева в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят: «nisi in Polonia educatum» [26]. Иначе несовершенно. Зелёная, как зелень увядающего букета, влага тяжёлой маслянистой струёй наполняла рюмку. Вино было крепко, как ликёр, но оно не отнимало головы. Мысли ясные и настойчивые, как пульс, пылали его мягким огнём. Надежда Фёдоровна вошла в столовую. Он поднялся из-за стола. Вероятно, так воспринимают окружающее глухонемые. Она улыбнулась, у ней шевельнулись губы — безмолвие и тишина остались неизменными. С таким же эффектом мог рухнуть сейчас весь дом, с грохотом повалиться любая вещь.