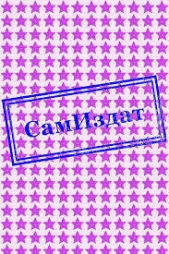Петербургский изгнанник. Книга вторая

Петербургский изгнанник. Книга вторая читать книгу онлайн
Исторический роман о судьбе А. Н. Радищева, известнейшего российского исследователя, этнографа, писателя конца XVIII - начала XIX века и его современниках - Сумарокове, В. Пушкине и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Образ смелого и твёрдого в своих предприятиях мужа стоял перед ним теперь во всём величии и славе, как умного и дальнозоркого вождя из народа.
Значение Ермака состояло в том, что после его походов в глубь страны устремились безымянные землепроходцы. Брешь была пробита. Дикая Сибирь обживалась и превращалась в русский край, в неотъемлемую часть могущественной России.
В комнате Рубановской находились Дуняша и Настасья. Женщины сидели за работой. Елизавета Васильевна — за вышивкой, Дуняша — за шитьём распашонки, Настасья, постукивая спицами, вязала из заячьего пуха тёпленькие чулочки.
Между женщинами шёл задушевный разговор о том, что тревожило каждую из них. Больше всего слышался настойчивый, убеждающий голос Настасьи.
— Как там ни судите, голубушка моя, а обзакониться надо было…
Настасья нарочито растягивала слова, осторожно подбирала их, чтобы не обидеть Елизавету Васильевну. Но какие бы слова не были ею выбраны и, как бы мягко, осторожно и дружественно не были сказаны, они болью отзывались в сердце Рубановской. Елизавета Васильевна и сама много думала о своём браке с Радищевым.
— Настасья Ермолаевна, с того дня, как я полюбила Александра Николаевича, — говорила спокойно она, — всё переменилось для меня…
— И всё же без церковного благословения, — настаивала на своём Настасья, — нет святой любви. Такова уж наша бабья доля…
— Почему же?
— Не хорошо, Лизавета Васильевна, нам, бабам, без венца жить. Грешно…
— Один бог без греха, — вставила нетерпеливо Дуняша, во всём сочувствовавшая Елизавете Васильевне с того самого памятного утреннего разговора в Санкт-Петербурге, когда Рубановская спросила её, Дуняшу, не побоится ли она вместе с нею поехать в далёкий край за Александром Николаевичем.
— Помолчи, бедовая, послушай, — наставительно и строго сказала Настасья.
— Надоело уж слушать всё одно и то же… По-старому судите…
— А ты, бойкая, по-новому?
— По-новому!
Елизавета Васильевна глубоко вздохнула.
— Может и грешно, Настасья Ермолаевна, — сказала она, — но всё же для меня нет ничего превыше моей любви…
— Не пойму я такой любви, — отложив чулочек со спицами на колени, сказала Настасья.
— Где уж понять! — опять вставила Дуняша, — небось обвенчали вас со Степаном-то Алексеевичем, а вы может друг дружку не знали до того…
— Свыклись-слюбились, — сказала Настасья, — а всё же венчаны.
— Разве то любовь? — горячо проговорила Дуняша, и тоже, отложив шитьё в сторону, мечтательно продолжала. — А я бы ежели встретила такого человека, как Александр Николаевич, и не подумала бы о венце… На край света за ним побежала бы. Одно счастье глядеть на такого, а не то, что жить с ним…
— Срамница ты, — безобидно сказала Настасья, — тебя не переговоришь и не переспоришь…
Елизавета Васильевна встала, отошла к окну. Ей надо было погасить вспыхнувшую внутри боль, не показать её. Александр Николаевич всегда учил её быть спокойной, твёрдой и она искренне хотела быть такой не только в его глазах, но и перед Настасьей с Дуняшей.
— Я чувствую, — сказала она, — что и бог простит меня. Ведь я пришла со своей любовью в тяжкие для него годы и помогла ему перенести горе несправедливого наказания, поддержала в нём мужество!… Разве так я против бога поступила, а?
— Я не осуждаю вас, Лизавета Васильевна, — смирясь, сказала Настасья. — Бог с вами, живите на радость и счастье… Я как бы про себя говорила. Доведись мне, я не смогла бы так…
— А я смогла бы! Ей-богу, смогла бы…
— Смогла бы! — повторила Настасья, — молода-а ещё рассуждать-то так…
Разговор оборвался. Опять застучали спицы Настасьи. Продолжала шить распашонку Дуняша. И, если Настасья не догадывалась, какое смятение в душе Елизаветы Васильевны произвели её слова, то Дуняша, глубоко изучившая Рубановскую, знала, что разговор этот не остался для той бесследным.
Дуняша пристально взглянула на Елизавету Васильевну. Она старалась по выражению лица уловить, как Рубановская приняла Настасьины слова, но, кроме задумчивости на смугловатом лице её, Дуняша ничего не уловила. Глубоко сочувствуя Рубановской и считая, что она во всём права, хотя и поступает не так как другие, а наперекор всем и всему, Дуняша называла про себя Елизавету Васильевну счастливой и одновременно несчастной. Счастливой, по Дуняшиному представлению, Елизавета Васильевна была потому, что горячо любила Радищева, а он отвечал на её любовь глубокой привязанностью. Несчастной она была потому, что полюбила Александра Николаевича, связала себя с ним без церковного благословения, без венца, как сказала Настасья.
Дуняша, только что защищавшая Рубановскую, в то же время чувствовала, что доводы её против Настасьи были неубедительны. Ей всегда было жаль Елизавету Васильевну, а сейчас эта жалость наполнила всё существо Дуняши. «Вот, ведь, сложится так жизнь, — думала она. — Снаружи хорошо, а внутри полным-полно боли».
Но вместе с чувством жалости к Рубановской, Дуняша оправдывала всё в жизни Елизаветы Васильевны ради её любви к Александру Николаевичу, которого Дуняша считала необыкновенно умным и самым хорошим человеком, какого только она знала. Если Радищев находит, что надо поступать, как повелевает сердце, и без венца живёт с Рубановской, значит так надо. Дуняша знала, что любовь их сильна и без церковного благословения, значит так тоже можно любить и жить.
Елизавета Васильевна тоже думала, что любовь её к Александру Николаевичу сильнее всего на свете и ради этого можно и не вступать в церковный брак. Не будь изгнания Радищева, вероятно, и она, в обычных условиях жизни не решилась бы на шаг, который будет осуждён в обществе.
Пусть она нарушила своей любовью установившиеся веками понятия о браке, но кто мог бы предусмотреть то, что заставило пойти её на такой шаг? Кто может осуждать её за любовь к человеку с прекрасными качествами ума и сердца, которых она никогда и нигде не встретила бы в другом своём избраннике? Она полюбила Александра Николаевича в несчастье его и готова принять за свою жертвенную и самозабвенную любовь самое строгое осуждение, если она его заслуживает.
До разговора, затеянного Настасьей, Рубановская не так остро чувствовала, что вопрос о их браке с Радищевым касается не только их лично, но и приобретает ещё и общественное звучание.
Елизавета Васильевна была благодарна Настасье за весь разговор. Это был первый гласный суд, первое испытание твёрдости её духа. Рубановская теперь наверняка знала, что вот так же о ней скажут не только близкие и родные ей люди, скажут все, в чьих глазах поступок её заслуживает осуждения.
Как не тяжело было сознавать это, но Елизавета Васильевна должна была быть готовой к ответу перед всеми, кто может спросить её, почему она поступила против установившегося мнения, обряда, закона. Она ещё глубже поняла, что всё самое лучшее и сильное и заставившее полюбить Радищева, как раз и заключалось в том, что она, связывая навсегда свою жизнь с его жизнью, становится безвозвратно на его дорогу отрицания всего представляющегося до сих пор незыблемым, святым, вселявшим в людях вечную покорность и преклонение. Она восстаёт вместе с ним против ненавистных Радищеву нынешних порядков.
Её ещё пугало то, что, отрешась от старого, она навсегда порывала с привычным ей высшим светом, но Рубановскую радовало другое — она становилась достойной подругой Радищева.
Елизавета Васильевна обрадовалась этому простому и единственному выводу, к которому пришла после раздумий, как неизбежному концу. По-другому и быть не могло. Это её живительный источник, из которого предстоит черпать теперь энергию, подкрепляющую её во всём.
Рубановская подошла к Настасье и молча поцеловала её в суховатые тонкие губы.
— Что вы, Лизавета Васильевна?
— Спасибо тебе, Настасья Ермолаевна, за урок.
— Славу богу, — облегчённо произнесла обрадованная Настасья, — я уж подумала и впрямь, не обидела ли вас, по своей глупости да неразумию.