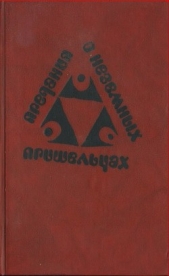Встреча. Повести и эссе

Встреча. Повести и эссе читать книгу онлайн
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец Шридде пошевелил губами. С большим трудом он выдавил из себя: «Что… с… Тиной?»
Не с тех ли пор… Да, пожалуй, с этого мгновенья Форстер знал, что ему делать, чтобы оправдать возложенные на него надежды. Основать республику. Это прежде всего. Провозгласить свободное государство посреди этого множества мелких княжеств и государств, кишащих — как ему теперь казалось — в мощной бороде народа подобно насекомым-паразитам. Германии все одно больше не было, а если и была, то истекала гноем, копившимся в сотнях ее нарывов. Надо штурмом взять эти крепости насилия и подавления! Мир хижинам — война дворцам! Во имя Шридде и ему подобных… Они будут избавлены от нищеты и смогут шагнуть в более человечное будущее только в том случае, если будут созданы условия общественной жизни, предуказанные французами. А если это творение, республика, рассчитывает продержаться, то она должна прибегнуть к защите французского оружия.
Такова была логика, железный закон революции, с которым можно было либо победить, либо пасть, но которому, во всяком случае, следовало присягнуть. Третьего не дано. Потому-то с такой решимостью заявил он в марте перед конвентом в Майнце: «Поймите, друзья, что занимается совершенно новый период в истории рода людского — период столь же важный, как тот, что начался тысяча восемьсот лет назад, когда двинулось в путь наше летосчисление… Вы одним ударом покончили с тиранией в рейнско-немецких пределах, водрузив знамя народной независимости на освобожденном берегу Рейна. Первый шаг сделан, за ним должен последовать и второй… Скажите же свое решительное слово: свободные немцы и свободные франки должны стать отныне нерасторжимо единым народом!»
Глава шестая
Вот, взвалив тяжесть себе на плечи,
я бреду по колено в пыли, и в голове
моей нет мыслей, кроме: ты должен
идти, пока хватит сил, а там уж все
кончится само собой.
Время текло. Болезнь его длилась уже вторую неделю. Больше всего он ненавидел длинные вечера, унылые и одинокие, когда, устав за день, не мог ни читать, ни писать, но и спать тоже было нельзя — чтобы не обречь себя на бессонные муки ночью. Он уже сбился со счета дней, недавно введенный новый календарь усугублял путаницу, и какое сегодня было число — семнадцатое или восемнадцатое декабря по григорианскому календарю или же двадцать седьмое, також восьмое по новому, — он понять не мог. Вторник-септиди или среда-октиди? Час целый надобился ему, чтобы умыться, побриться, одеться. После чего он лежал, как написал Терезе, раздавленной мухой в кресле. Лежал, в бесплодном одиночестве своем предаваясь глоссам, как он их называл, потому что мысли точные и четкие, последовательно развивавшиеся и не терявшие почву под ногами, ему не давались вследствие изношенности всей машины, его тела.
Тулон! О вернуть бы снова Тулон, порт, верфи, наш флот и наш арсенал…
Англичане, как поговаривали, предпринимали какие-то шаги, чтобы заключить мир. Но он мало верил этой болтовне, тянувшейся из кофеен. О мире нечего было и думать, пока положение стран, входящих в коалицию, не станет стократ хуже того, каким оно представляется в Париже, а этого пока не было в действительности.
Надежды и опасения, опасения и надежды. Но ведь всего этого из головы не выкинешь. Да и где взять такую голову, чтобы выдержала все это? Его голове это, во всяком случае, не под силу. Всякое напряжение ума немедленно сказывалось на ней, это он видел. Каких страданий стоило ему хотя бы кончить вчера седьмое письмо своих очерков.
Любовь с первого взгляда, как ее принято называть… Нет, все было не так. Странно, но как раз теперь он вспомнил то, о чем задолго до помолвки писал Спенеру, своему издателю и тогда еще другу, который теперь, конечно, тоже от него отвернулся. Sed haes inter nos. Но это между нами. Ежели б я предложил руку дочери Гейне, то, думаю, вскоре получил бы профессуру в Гёттингене, невзирая на достаточное количество претендентов. Однако жениться, по правде говоря, мне не хочется, на его дочери особенно…
Чувства его колебались. Как палуба корабля под ногами. Или как белые паруса на голубом горизонте — то возникали, то исчезали. Он кричал рулевому и команде: полный вперед! Но чужой флот был быстрее и скрывался в пенящихся волнах зеленого океана. Потом выныривал снова. Возникал, исчезал…
Тут уж ничего не поделаешь. С обеими, Терезой и Каролиной, он познакомился в один и тот же день, во время первого своего посещения Гёттингена, и не обратил на них никакого внимания, ведь было им тогда по пятнадцати. Он легко мог их тогда перепутать, даром что одна, Тереза, была беленькой, другая, Каролина, очень темненькой. Забавно было, когда однажды Гёте в его майнцском доме в присутствии обеих развивал свою теорию цвета, находя одну желтой, другую голубой. Желтое — это свет, а голубое, значит, тьма? Не похоже. Да и вся метафизика поэта представлялась ему сомнительной, упрямая борьба с Ньютоном — и вовсе смешной. И конечно, он не мог объединить одним словом обеих женщин. Тем не менее Каролину он называл впоследствии своим голубым ангелом.
Пикник потянулся за пикником. От Касселя до Гёттингена был ведь всего один день пути. А профессора наперебой приглашали его, в том числе и Михаэлис и Гейне. С Лихтенбергом он был уже к этому времени дружен, иногда его сопровождал и Земмеринг.
Юные дамы расцветали. Из отроковиц получились очаровательные кокетливые прелестницы. Родители подумывали уже о партиях для них. На природе играли в жмурки и салочки. Под хохот потенциальных тестей — ибо какая-нибудь дочка была тут у каждого — он водил, ловил и ощупывал девушек, иной раз и чмокал их в щечку, вряд ли в пылу игры отличая одну от другой, лишь удостоверяясь, когда снимал повязку, что одна была блондинкой, а другая брюнеткой. Он так умел увлечь их рассказами о Таити, пока на костре жарились фазаны, а вино полыхало у всех на щеках и в глазах. Все его слушали, девушки не сводили с него глаз. Тогда-то он написал своему Спенеру строки, которые теперь всплыли в его памяти. Он мог сделать и другой выбор. И может быть, Каролина последовала бы за ним в Париж и пестовала бы его здесь.
Он потянулся за раздобытыми недавно картами и расстелил их. Вот Индия, страна, которая особенно его манила, с тех пор как он перевел «Сакунталу». В состоянии ли он, если это понадобится республике, снова пуститься в обследование южного полушария на двух ладно оборудованных трехмачтовых? Ведь ему всего тридцать девять, впереди целая жизнь. Это лучший возраст для мужчины: и великому Куку было столько, когда он отправился в свое первое плавание. Что же могло бы ему помешать? Такая поездка избавила бы его от всех бед — и прошедших, и будущих. Он бы еще раз увидел мир и забыл бы о болях и хворях — и о Терезе. Травер стал бы местом последнего прощания.
Такие мысли кружились в голове его днем. По ночам он хоть и засыпал, но не испытывал облегчения. Донимали кошмары, от которых просыпался в холодном поту. В груди теснилось странное беспокойство, нервы были напряжены, как канаты, давил страх — да, впервые ощутил он страх перед смертью и мучительно искал утешения. Терпение — ничего другого не остается! Это единственное, что спасает. Он внимательно прислушивался к своим болям, и временами ему казалось, что они утихают. Разве не глуше стал этот отвратительный хриплый треск в груди? Но может, это сказывается только действие опиума.
Забыть Терезу? Едва эта мысль мелькнула в его голове, он испугался. Ежели б не надежда хоть чем-то быть полезным своей семье — одному небу известно, как тяжко надеяться, когда камнем давит полное одиночество и все, все от тебя отвернулись! — то ему здесь больше нечего было бы делать и он был бы, пожалуй, вправе требовать отставки. Ему самому ничего не нужно, кроме работы — но ради чего? Ради того, чтобы как-то держаться изо дня в день в этом безрадостном бытии? Сотни раз жизнь подсказывала ему, насколько же больше мужества требуется, чтобы жить, чем чтобы умереть. Умереть легко может любая собака. Но вот когда дьявол — а как иначе назвать этого злорадного, с хищным оскалом господина? — когда дьявол спрашивает тебя издевательским тоном: в чем же состоит оно, твое величие? Может, ты всего-навсего тщеславный шут, возомнивший, что ты лучше других, и не видящий из-за этого несправедливости, заложенной в самой природе? Что можно ответить этому чудовищу, для которого люди что спички?