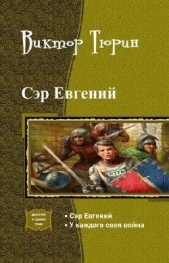Распутин
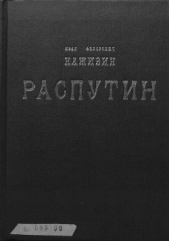
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А Евгений Иванович взялся за свою тайную тетрадь.
«Она идет, страшная… Она уже, собственно, пришла… И замирает сердце: не последний ли это акт российской трагедии? В чем же сущность этой нашей трагедии? В том, что революция — неизбежна. Это говорю я, совсем не революционер, но лишь очень скромный сторонний наблюдатель, в революции мало верующий вообще: да, она была н е$7
Но не писалось, не думалось — тяжело болела душа. И сосала сердце тоска по Ирине. Где она, милая и страшная?.. Он встал, чтобы пройтись, — тяжело было в одиночестве.
— Ты куда, папик? — выскочив в коридор, спросила Наталочка.
— Надо к Чепелевецкому пройти часы мои из починки взять… — сказал он.
— Возьми и меня, папик… — попросила девочка. — У Сережи болит горлышко, а мне так хочется погулять с тобой…
— Ну что же, пойдем…
Наталочка радостно побежала одеваться. Чрез минуту оба они вышли на двор, где старый Василий разгребал выпавший мокрый снег. Со всех крыш нежно звенела, обещая солнце и радость, жемчужная капель: люли-люли-лель-лель…
— Ну как дела, старина? — спросил Евгений Иванович.
— Дела табак, хозяин! — отвечал Василий и, пугливо озираясь, прибавил: — Телеграф опять будто работать стал… И, бают, телеграм нам в город подали, что царя прогнали и все будто под себя жиды теперь забирают. На Дворянской все ленты красные понадевали…
— Ну, все это так, болтовня, вероятно…
— Нет, сам своими глазами видел… И антамабили это летают — просто ужасти подобно!..
Мимо ворот как раз бурей с воем пролетел автомобиль. Мелькнуло что-то красное…
— Во! Видал? Это они самые… — сказал Василий опасливо.
Евгений Иванович зашел в редакцию, но не успел он спросить старого Афанасия, кто там есть, как дверь из библиотеки разом распахнулась и на шею ему бросился Андрей Иванович, редактор, в своем поношенном бархатном пиджачке и большом черном галстухе бантом. Длинные седые волосы его восторженно развевались.
— Свершилось! — крикнул он. — Боже мой…
— Да что такое?!
— Революция… Отречение… Республика!..
И вдруг старик восторженно зарыдал. Сзади с дрожащими губами стоял Евдоким Яковлевич, старавшийся удержать слезы. Князь и обе молоденьких дочери его восторженно сияли. Сияли какие-то совсем незнакомые молодые люди, которые радостными глазами смотрели на Евгения Ивановича. Сияла Нина Георгиевна. Все, галдя и толкаясь, восторженно перебивая друг друга, пошли в редакционную комнату.
— И как легко все свершилось! — слышались взволнованные голоса. — Телеграфируют, что и двадцати человек не погибло, да и то все фараоны, полицейские… Прямо изумительно: бескровная революция! О, русский народ — изумительный народ! Нет, нет, недаром дали мы, знать, миру Толстого!
И странно: Евгений Иванович почувствовал, что он должен был бороться с собой, чтобы не заразиться этим всеобщим восторгом, в котором ему сразу послышались какие-то истерические, надорванные, нездоровые нотки. Сергей Терентьевич был сдержаннее других, и — невольно отметил Евгений Иванович — точно смущена чем была Нина Георгиевна.
Мимо окон, сотрясая все, с ревом пронесся автомобиль.
Все стремились вон, на воздух, чтобы видеть, слышать, еще и еще раз ощупать всеобщую радость своими руками. Молодежь вся унеслась куда-то, а члены редакции должны были остаться на некоторое время здесь, чтобы выпустить первый свободный номер своей газеты, маленький, но такой огромный. Евгений Иванович с Наталочкой пошли за руку на Дворянскую.
По городу бурными потоками пробегала сумасшедшая радость. Что-то пьяное бродило уже по улицам, по которым все больше и больше расцветало красных огоньков. По углам виднелись еще не просохшие трухлявые бумажки какие-то, перед которыми, вытягивая шеи, толпился народ. Полицейские все попрятались. И бурей проносились туда и сюда какие-то автомобили, обдавая прохожих тучами мокрого и грязного снега, похожего на кофейную гущу, а в автомобилях были какие-то молодые люди и девицы значительного вида, а иногда и серые солдаты с красными бантами.
Евгений Иванович зашел к старому Чепелевецкому, чтобы взять свои старые охотничьи часы.
— Готовы, готовы… — вежливо и ласково сказал старый еврей. — Вот, пожалуйте… Поломки никакой не было, я только почистил… Вероятно, подмочили как-нибудь…
У низкой двери его с разбега остановился большой серый автомобиль, и под отчаянный звон дверного колокольчика в подвал часовщика влетела его Сонечка, более чем когда-нибудь хорошенькая, восторженная, с сияющими, как звезды, глазами и с красным бантом. От нее во все стороны брызгало безмерным счастьем, упоением. И одно только огорчало ее, это то, что нельзя делать революцию сразу и в Петрограде, и в Москве, и в Окшинске, и во всей России, нельзя даже быть одновременно на митинге и в Народном доме, и на табачной фабрике Кузьмы Лукича, и нестись с радостной вестью по деревням. И где происходит самое главное, неизвестно…
Автомобиль с грохотом унесся дальше.
— Что это вы тут околачиваетесь? — со счастливым смехом бросила Сонечка Евгению Ивановичу. — Ах, какой митинг был сейчас в Народном доме!.. А чрез два часа другой — будут выступать солдаты… Я только хоть чего-нибудь перекусить — едва на ногах держусь от усталости…
Отец, поглаживая свою длинную белую бороду, ласково посмотрел на нее сквозь свои сильные очки: он очень бедствовал глазами.
— Это жаль, что ты опять бежать собираешься… — сказал он. — Тебе следовало бы помочь мне: у меня очень болят глаза. Ну а если уж не можешь остаться, так вот хотя вставь пружину в эти серебряные часы… Работа срочная, и мне неприятно обидеть заказчика…
Сонечка даже окаменела от удивления.
— Но… что с тобой, отец? — едва выговорила она, глядя на старика во все глаза. — Когда же чинила я часы? Ведь ты же знаешь, что я ничего не умею…
— Если ты не умеешь починить часов, то как же можешь ты браться чинить всю Россию? — тихо и значительно сказал он, ласково глядя на дочь сквозь толстые стекла очков. — Соня, мне за тебя… стыдно…
— Ах, ты вечно с этими твоими шутками! — нетерпеливо отозвалась Сонечка. — Кто же должен устраивать новую жизнь, если все будут отказываться? — еще нетерпеливее бросила она и вдруг устремилась в заднюю комнату, восторженно напевая:
— Она совсем пьяная… — сказал тихо старый еврей и, глядя сквозь очки на Евгения Ивановича, которого он давно знал, продолжал неторопливо: — У меня иногда бывает один учитель из-за реки, из Уланки. Если у него или у его знакомых попортятся немножко часы, то сперва за починку их берется он сам, а потом, когда все испортит и исковыряет, то несет их уже ко мне. И не один он так поступает, а очень многие. А вот теперь Россию чинить взялись… Образовался какой-то революционный комитет у нас, и старше двадцати лет, кажется, нет в нем ни одного. Нет, впрочем, одна есть: Клавдия Федоровна, дочь священника Княжого монастыря… Скажите мне только одно: что это такое? Сумасшествие или что? Часы она починить не умеет, а Россию — умеет…
Евгений Иванович тепло посмотрел на старика.
— Я не знаю, что это такое… — тихо сказал он. — Но… — неожиданно для себя прибавил он, — не думаете ли, что и старые-то мастера, которым мы верили, оскандалились вдребезги?
— И это верно… — сказал так же тихо старик. — Но — Сонечка…
Он растерянно развел руками…
Мимо окон, все сотрясая, пронесся набитый людьми автомобиль. Из-под сильных колес его целыми снопами летела в окна, на стены, на прохожих жидкая и холодная кофейная грязь. И послышался справа приближающийся шум толпы: ка-га-га-га… ка-га-га-га-га-га… Евгений Иванович и старик вышли на тротуар: вся улица была залита огромной возбужденной толпой, над которой ярко реяли красные знамена. Впереди толпы какой-то мастеровой, длинный, худой, с серым лицом, измазанным сажей, на узловатой веревке, накинутой на шею, вел губернатора фон Риделя. Лицо губернатора было окровавлено и искажено страданием. За ним шла, вызывающе подняв свою хорошенькую головку, его Лариса Сергеевна, лицо которой точно говорило злобно: «Ну, подождите, голубчики, мы с вами еще поговорим!» За ней, тоже на веревке, с оборванными погонами, смущенный, шел подбористый и щеголеватый жандармский полковник Борсук, земский начальник, недавний бог и царь, Тарабукин, перепуганный, и жалкий, и бледный, и похудевший Сергей Федорович, председатель уездной земской управы. А рядом с начальством, шатаясь и путаясь слабыми ногами в невероятно грязной, набок надетой юбке шла, уставив вперед свои сумасшедшие глаза, старуха Зорина: ну, Варю у нее заморили, зарыли, Митю тоже отняли и спрятали куда-то, кушанье все отравили, и она вот уже три дня ничего не ела, прекрасно! Но вот все начальство уже притянули к ответу, притянут и Строгановых и других ее родственников и всех… И она, путаясь ногами и шатаясь от голода, шла под сенью красных знамен все вперед и вперед…


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)