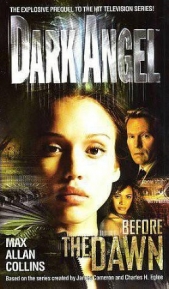Ночь умирает с рассветом
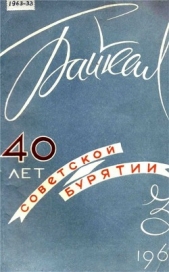
Ночь умирает с рассветом читать книгу онлайн
Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Елизар звонко расхохотался, словно молодой.
— Хоть на цепь посади, все одно сбегу. Я, вишь, страсть люблю умные речи слухать. Бабы по осени запасают впрок капусту, рыжики, всякую снедь. А я весь свой век сберегаю мудрые мысли.
Дед был прыткий до всего теперешнего, на чем свет стоит ругал старую жизнь, Амвросия же за поповское звание не осуждал, даже как-то сказал, что, может, и поп еще человеком станет.
Вокруг колокольни, над церковью тяжело летали лохматые, тощие вороны, садились на завалившиеся кладбищенские кресты, уныло каркали.
Дочка отца Амвросия больше в город не уезжала. Не то выучилась, не то из-за военного беспокойства жила с отцом. Видом Антонида была не деревенская поповна, а прямо городская барышня: нарядное платье обтягивает тугие груди, вокруг головы тяжелая золотая коса, сильные ноги в светлых чулочках. Когда выходила из калитки, Василий мелко крестился, ему казалось, что она не по земле идет, а плывет по воздуху. Василию вообще-то было не до девичьих прелестей, душа у него едва цеплялась за костлявое тело, но при виде Антониды все нутро приходило в томительное трепыхание, он испуганно шептал, чтобы пречистая дева Мария уберегла его от лукавого.
Антонида частенько заходила к Луше, дочери Егора Васина. «Что ей там надобно? — досадовал Василий. — Пошто таскается к богохульникам?» Дед Елизар, когда однажды был в добром расположении, сказал:
— Видал, божий огарок, попова девка-то бегает к Лушке Васиной? Подружками заделались, косомол в Густых Соснах замышляют.
— Чего замышляют?
— Косомол, одним словом. Супротив богатых, за советскую власть, значит. — Старик дробно рассмеялся: — Супротив Ильи пророка, Николая угодника и всех святителей.
— А отец Амвросий как же?
— А ему, бугаю, чего? Ржет, кличет девку поповной, а она, вить, злится. Дароносицу, сказывают, из окна вышвырнула, поп едва нашарил в потемках...
— Прости господи богохульницу...
— С Лушкой по книжкам занимается, — не унимался Елизар. — Девок на грамоту сбивает. Сам слышал, как она их разжигала. Жизня, мол, скоро будет сплошное удовольствие: люди — и мужики, и которые городские, весь народ — станут вроде как настоящие братья. Так и высказывалась.
Василий в ту ночь долго не мог заснуть. Жизнь снова представлялась ему неустойчивой, шаткой, мерещились какие-то страшные рожи, сотник Соломаха... А то эта девка повешенная все будто глядит, головой покачивает. Под утро причудилось, что матерь божья Мария кормила грудью старика Елизара. Срамное видение...
Проснулся Василий поздно, с головной болью. Его бил озноб, кидало в жар. С трудом поднялся, развесил во дворе на веревке свои зеленые порты и рубаху, которые выстирал накануне — недели две до того они валялись в сенцах, не хотелось заниматься бабьим делом...
Дед Елизар со вздохом взял под мышку свои почти новые сапоги и ушел. Скоро принес в обрывке сети несколько мороженых сорожин.
— Лука дал, кровопивец. За сапоги, — Елизар скверно выругался. — У него чуть не все лето мороженая рыба.
Он тут же ловко ободрал с сорожин кожу вместе с чешуей, подмигнул Василию:
— Так и с Кузьмича сдерем шкуру, когда пора настанет.
Похлебав ушицы, старик отправился в деревню Красноярово, туда должен был приехать какой-то начальник. Елизару до всего дело, пошагал за восемь верст.
Днем Василию стало худо, внутри как пожар, а то морозит, даже зубы стучат. Он лег на лавку, укрылся дохой. За окном, где-то далеко, вроде постреливали. Василий тяжело забылся. Пришел в себя только вечером, когда явился Елизар. В избе было темно, за лесом что-то бледно светилось то розовым, то красным.
— Гляди-ка, — поманил Василий Елизара, — небесное знамение...
— Дурак, — огрызнулся старик. — Не знамение, а пожар. Беляки, гады, подпалили Красноярово. Врасплох напали, когда сходка была. Баб, детишек порубили. Едва, едва ноги унес.
— Знамение! — радостно взвизгнул Василий. — Свет небесный... Окончание антихристова царства.
Елизар в потемках наткнулся у печки на ведро, закричал во весь голос:
— Ты чего брешешь, гнида! Гад недодавленный. Катись отседова, из моей избы, шкура семеновская... Я тебя, варнака, топором сейчас! Слышь, катись напрочь.
Василий заворочался на лавке, застонал.
— Хворь у меня... — проговорил он хриплым голосом. — Внутрях все, как в печке. Не гони, помираю. Испить бы... Христа ради.
Старик засветил коптилку, зачерпнул в ковше воды из ведра, подал Василию.
— На, чудотворец вшивый. Вдарил бы, да рук поганить не желаю. А завтра уматывай. Не стану я с такой контрой жить под одной крышей.
Елизар залез на печку, долго сердито ворчал. Ночью слез, растолкал больного Василия, бессвязно забормотал:
— Тонем, братцы... Лодку на берег несет, на скалы... Спасите... А-а-а...
И упал возле лавки.
Был конец весны, щедрое время. Все залито солнцем, поросло молодой зеленью, снег остался только в хребтах да на озере. Хотя и озеру пора была разойтись.
Чуть не вся деревня брала воду в проруби, которая за домом дедушки Елизара. Прорубь далеконько от берега, лед сверху растаял, на него набросали жердья, горбылей. Антонида побежала утром с ведрами и вернулась без воды: ночью ветер унес льдину вместе с досками и прорубью, а с берега ведром не зачерпнешь. На второе утро льдину притащило назад и поставило, как была раньше. Антонида и Луша долго смеялись: больно здорово получилось!
Антонида каждый день прибегала к Луше, рассказывала все, что узнавала дома о боях с белыми, приносила хорошие книжки про советскую власть, читала Луше, как надо бороться с гидрой мировой контрреволюции, собиралась убежать к партизанам.
— Луша, милая, давай подговорим девчат, мы же взрослые, — горячо шептала Антонида. — Добудем оружие, станем помогать большевикам. В городе все гимназисты ушли на фронт.
— За красных? — спрашивала Луша.
— Не все. Богатые за белых. А мы будем за красных.
— Тебе тятька не дозволит.
— Я никого не буду спрашиваться, меня никто не посмеет задержать. — Антонида гордо тряхнула головой. — «Весь мир насилья мы разрушим...» В городе сказали — нам надо организоваться. У нас в гимназии кружки были. Интересно. Шум, крик, речи... Эсеры приходили, меньшевики. Даже красный комиссар был, с револьвером. Рассказывал про революцию, он был в Петрограде, когда царя свергали. Вот говорил! Все слушали, как завороженные. На другой день три наших девушки ушли в партизанский отряд... — Антонида тихонько смахнула слезу: — Люся, со мной вместе училась, погибла в бою. Ее похоронили как солдата, в братской могиле. Прекрасная смерть.
— Смерть, она всегда смерть, — тихо проговорила Луша. — Молодым жить надо...
Когда в плошке выгорал жир, девушки прижимались друг к дружке и долго шептались в темноте. Луша с замиранием сердца, с тоской и тревогой говорила о своих мужиках, которые снова подались на фронт, в Красную Армию.
— Ничего, ничего, — торопливо шептала в ответ Антонида. — Они за правое дело, за весь народ... Живые придут, здоровые, все вместе станем строить новую жизнь.
Горячие слова Антониды растревожили Лукерью. Она читала книжки, старалась понять то святое дело, за которое с оружием в руках бьются ее родной Димка, отец и братья. В избе Васиных по вечерам стала собираться молодежь, все больше девушки — парни сражались на многих фронтах. Антонида обучала их грамоте, рассказывала о жизни, которая наступит, когда наши разгромят всех врагов.
— Везде будет власть рабочих и крестьян, всего трудового народа, — говорила Антонида, поправляя коптивший жирник. Девушки не мигая смотрели ей в рот. — Никаких царей, никаких буржуев. Всего у нас станет вдосталь — хлеба, одежды... Кем захочешь, тем и станешь...
— Здорово... — мечтательно проговорила Луша. — Смотря что в тебе сокрыто — хочешь в лекари или там в землемеры...
— А вы кем хотите? — робко спросила рыжеватая рябая Фрося, работница Луки.
— Я? — глаза у Антониды вспыхнули, щеки залились румянцем. — Я буду учить детей.