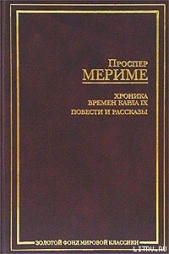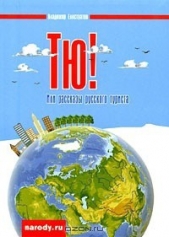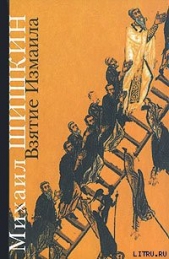Три прозы. Взятие Измаила; Венерин волос; Письмовник

Три прозы. Взятие Измаила; Венерин волос; Письмовник читать книгу онлайн
Михаил Шишкин — известный прозаик, чья литературная биография опровергает привычное мнение, что интеллектуальная проза — достояние узкого круга читателей. Москвич по рождению, последние годы живет в Швейцарии, выпуская в свет по одному роману в пять лет — и каждый становится событием.Его романы "Взятие Измаила", "Венерин волос", "Письмовник" удостоены престижных премий "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер", имени И.А.Бунина; первая премия портала "Имхонет" в категории "Любимый писатель". Проза Шишкина сочетает в себе лучшие черты русской и европейской литературных традиций, беря от Чехова, Бунина, Набокова богатство словаря и тонкий психологизм, а от западных авторов — фрагментарность композиции, размытость временных рамок. По определению самого писателя, действие его романов происходит всегда и везде.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вопрос: Как может быть другим то, чего нет?
Ответ: Твой взгляд, который пристал к отражению лампы на ночном стекле, твой голос, который прячется от тебя под кровать и выпрыгивает в форточку, слова, которые ты пишешь, не говоря уже о молочных зубах, которые собирала твоя мама в баночку из-под вазелина, – это уже не ты, но это не значит, что тебя нет. Так и эта ночь, и кусок куста за окном, белый оттого, что на него падает свет лампы, и гул самолета, и короткое пересвистывание соседа с ключом – будто сосед и ключ пожелали друг другу спокойной ночи – все это пройдет к утру, но это ничего не значит.
Вопрос: И если я ничего не слышал о племени Арунта, верящем в камень Эратипу, убежище детских душ, которые через дырку в камне высматривают проходящих мимо женщин, уверенных, что именно таким образом в их горячую мокрую складку попадает ребенок, то это не значит, что этого племени нет. И если где-то в Кольмаре, известном в России лишь как родина убийцы Пушкина, мыло в одной мыльнице превратилось в медузу, а я ничего об этом не знаю, то мое незнание разве доказывает невозможность превращения мыла в медузу? И оттого, что старуха с седьмого этажа вот уже неделю ничего больше не бросает, – это вовсе не значит, что ее больше нет.
Ответ: Ты все такой же. С тобой нельзя ни о чем говорить серьезно. И если кто-то когда-то сказал, что я сплю, будто плыву кролем, и сквозь сон я однажды почувствовала, как он осторожно, чтобы не разбудить, тронул мне ладонь губами, то разве этого не было, если это было?
Вопрос: Я, кажется, начинаю понимать, о чем ты говоришь. Я возвращался сегодня домой и видел на дороге задавленную кошку. Колеса машин укатали ее в бумажный лист. Это в нашем мире она плоская, как тень на асфальте, а на самом деле она объемная, трехмерная, как мы, и на одной странице ловит на балконе лапой снежинки.
Ответ: Конечно! Точка видит строку, для нее это линия, и представляет умом плоскость. Кто-то сейчас эту строчку читает и видит страницу, плоскость, но это лишь отражение, проявление какого-то объемного тела, вот этой старой папки на столе с отпечатком чашки, вот этого мотылька, сходящего с ума по лампе, вот этой неудобной ватной подушки, меня, тебя. О чем ты думаешь?
Вопрос: О том, что тебя больше нигде нет – только на этих страницах.
Ответ: Ты меня совсем не слушаешь!
Вопрос: Извини, продолжай!
Ответ: Так вот, мыслящая тень понимает, что она лишь отражение путника, которого она не может ни увидеть, ни услышать, ни осознать. Она состоит из дороги, и травы, и ступенек, и половиц, и стены, и чего угодно, на что упадет. Она может быть одновременно животным, растением и минералом. Но главное ведь в ней – путник. И вот мы – лишь тень кого-то, кого мы не можем ни увидеть, ни услышать, ни осознать. Наше тело – только тень от другого нашего настоящего существования, вот, потрогай мою коленку!
Вопрос: Шершавая.
Ответ: Все, убери руку!
Вопрос: Но кто тот путник?
Ответ: Что тебе с того? Путник, снег, пыльца – все это слова. Важно лишь, что там, где путник, снег и пыльца, мы единое целое. Ну как тебе объяснить, чтобы ты понял? Вот чувствуешь, запахло паленым – это мотылек попался, обжег крылья о раскаленную лампочку, а за окном снова пошел ночной дождь, но с неба падают не капли, а буквы – к, а, п, л, и, – слышишь, барабанят по подоконнику, и запах сгоревшего мотылька – все это буквы. И мы все – единое целое.
Вопрос: Ужасно воняет мотыльком – нужно открыть окно, чтобы проветрилось.
Ответ: Иди, я подожду.
Вопрос: Дождь тихий, невидимый. Когда капли попадают у самого окна в свет лампы – вспыхивают. Крупные, редкие, длинные. Будто это старуха с седьмого этажа бросает мне с балкона белые карандаши, которые никому на всем свете не нужны: берет по одному за кончик и отпускает.
Ответ: Иди скорей сюда! Мне холодно.
Вопрос: Погоди, но ведь мы говорили совсем о другом. О чем?
Ответ: Мы говорим все это время о любви. Мы об этом с тобой никогда не говорили. Будто избегали этого слова. Наверно, казалось несоразмерным: разве можно собрать все, что чувствуешь, в какое-то узкое слово, как в воронку?
Вопрос: И что делать? Придумать другое слово? Новые значки для букв?
Ответ: Ты опять меня дразнишь! Дело же не в слове. Назови это любым другим словом – тем же путником, или пыльцой, или Богом, или вот хотя бы той же сороконожкой. В одном измерении она спряталась под кирпичом между набухшими, тяжелыми от дождя флоксами, а в другом – она везде. Любовь – это такая особая сороконожка размером с Бога, усталая, как путник, ищущий приюта, и вездесущая, как пыльца. Она надевает каждого из нас, как чулок. Мы сшиты под ее ногу и принимаем ее форму. Она ходит нами. И вот в этой сороконожке мы все едины. У нее не сорок ног, а столько, сколько у человечества. Она состоит из нас, как из клеток, каждая клетка – сама по себе, но может жить только одним общим дыханием. Просто мы не осознаем, что живем в невидимом и неосязаемом четвертом измерении, которое и есть сороконожка-любовь, а видим себя только в третьем – как та раскатанная по дороге кошка, которая на самом деле жива и ловит лапой снежинки.
Вопрос: У тебя ледяные ноги.
Ответ: Ты, как всегда, меня не слушал. А помнишь, я сказала, что с детства недоумевала: «Зачем нужны эти волосы внизу?» А ты ответил так просто: «Чтобы целовать».
Вопрос: Помню. Было очень жарко, и мы ходили по квартире голыми. Ездили купаться, и я весь обжегся на солнце. Ты сказала, что нужно обгоревшую кожу помазать сметаной. Сметаны не было, был кефир. Ты заявила, что кефир не подойдет, а я ответил, что это все равно, главное, что холодное! Я лежал на животе, а ты мазала мне спину ледяным кефиром из холодильника. Только сделали ремонт, и на свежепокрашенном полу были разложены газеты. Мы ходили босиком, и газеты прилипали к потным ногам, такая стояла жара, даже под вечер. Потом пошли в ванную. Там сидел паук, и ты смыла его струей воды из душа. Очень хотелось снять с тебя, с голой, лифчик и трусики из белой, почти голубой по сравнению с загаром кожи. Мы набрали полную ванну, ты в нее залезла, легла, и в зелени воды твои ноги стали короткие и кривые, как лягушачьи лапки. Я гладил их под водой, длинные и стройные на мокрую ощупь, и думал, что так и должно быть, ведь ты моя лягушка-царевна. А потом, когда капли из меня упали в воду, ты наклонилась, чтобы рассмотреть, и сказала: «Смотри, свернулись, как маленькие облачка».
Ответ: У всех подруг все уже было, а у меня до тебя – ничего. Мама мне давным-давно дала какие-то шарики, которые нужно вводить до этого во влагалище, а что мне с ними делать, с этими шариками? Вот и лежали в холодильнике. Как откроешь молоко взять – увидишь шарики, и хоть плачь. А так хотелось любить по-настоящему, припасть к телу, распластаться, прилепиться каждым кусочком кожи, вывернуться наизнанку, вобрать в себя, как наволочка. Ты, узнав, что я еще лягушка в девичестве, вдруг замер, собирался что-то сказать, а я закрыла тебе рукой рот: «Молчи! Я так хочу!» И все равно долго ничего у нас не получалось – у тебя сразу все извергалось. Размазываю себе по животу, по груди, по разводам на шее, нюхаю, пробую на язык – и все не женщина. Я поступала на психологический, провалилась и устроилась работать в виварии при университете. Раньше я представляла себе, что все у меня в первый раз с мужчиной должно произойти красиво: в какой-то красивой комнате, обязательно при свечах и чтобы играла красивая музыка. Жизнь должна быть красивой. А потом я поняла, что красота – это совсем другое. Мне нравилось бродить между жбанами с лягушками, мимо стеллажей с лотками, в которых кишели белые мыши. Нравился тот особый запах, теплый, земной, утробный. Еще там были три обезьяны, запуганные, злые. С ними делали какие-то опыты: завинчивали для неподвижности в специальные тиски, чтобы они не могли шевелиться, и вставляли в голову электроды. А в перерывах между опытами они сидели с печальными глазами в клетке. Там стояли мешки с грецкими орехами. Помнишь, ты протянул орех сквозь решетку, обезьяна схватила орех и изо всей силы ударила тебя по руке. И смотрит глазами, в которых вдруг не печаль, а злоба. Во дворе были ряды клеток с собаками. Когда одна начинала лаять, то заводились другие, и тогда лай стоял до неба. Я должна была топить щенков, и ты мне стал помогать: в ведро мы налили воду, бросили щенков и другим ведром с водой поскорее накрыли, вдавили, так что вода плеснула через край, обмочив нам ноги. Я крепилась, но все равно потекли слезы. И ты сказал, чтобы утешить: «Ну что ты, не плачь! Все это можно будет потом куда-нибудь вставить, в какой-нибудь рассказ». Ты сказал такую несуразицу, что меня всю внутри пронзила такая острая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка. Нужно было принести сена, которое складывали в крайнюю пустую клетку. Мы пошли туда, и тут не удержалась, обвила тебя, стиснула, зацеловала, повалила. Вот это и была настоящая красота: запах колкого сена, небесный лай, ты в первый раз во мне, и боль, и кровь, и радость.