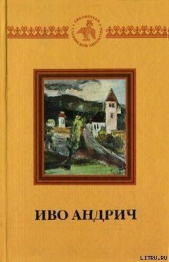Травницкая хроника. Мост на Дрине
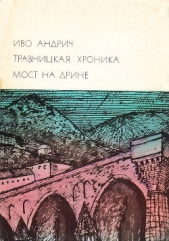
Травницкая хроника. Мост на Дрине читать книгу онлайн
Трагическая история Боснии с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыта в двух исторических романах Андрича — «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине».
«Травницкая хроника» — это повествование о восьми годах жизни Травника, глухой турецкой провинции, которая оказывается втянутой в наполеоновские войны — от блистательных побед на полях Аустерлица и при Ваграме и до поражения в войне с Россией.
«Мост на Дрине» — роман, отличающийся интересной и своеобразной композицией. Все события, происходящие в романе на протяжении нескольких веков (1516–1914 гг.), так или иначе связаны с существованием белоснежного красавца-моста на реке Дрине, построенного в боснийском городе Вышеграде уроженцем этого города, отуреченным сербом великим визирем Мехмед-пашой.
Вступительная статья Е. Книпович.
Примечания О. Кутасовой и В. Зеленина.
Иллюстрации Л. Зусмана.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вышеградский мудерис Хусейн-эфенди — еще молодой человек, невысокий, полнотелый, холеный, нарядно одетый. Черная короткая бородка, тщательно подстриженная, правильным овалом обрамляла его белое и румяное лицо с продолговатыми черными глазами. Изрядно образованный, он знал прилично, слыл всезнающим, а мнил о себе и того больше. Он любил говорить и пользоваться вниманием слушателей. Был уверен в силе своего красноречия и в этом самообольщении говорил неудержимо много. Изливаясь изящными закругленными тирадами, мудерис помогал себе экономными движениями своих белых, нежных, с розовыми ногтями рук, опушенных густой, короткой и темной растительностью и слегка приподнятых перед грудью. Ораторствуя, он не забывал принимать самые выгодные позы, как бы красуясь перед зеркалом. Владелец уникальной в городе библиотеки, помещавшейся в окованном и снабженном крепкими запорами сундуке, завещанном ему перед смертью его учителем, достославным Арап-ходжой, Хусейн-эфенди не только оберегал ее заботливо от пыли и моли, но и со всевозможной бережностью изредка ее просматривал. Впрочем, обладание столь многочисленным собранием бесценных книг само по себе создавало ему славу в глазах неискушенных в грамоте обывателей и поднимало его в собственных глазах. Известно было также, что мудерис ведет хронику наиважнейших городских событий. Это обстоятельство укрепило за ним репутацию человека исключительных талантов и учености, ибо обыватель полагал, что доброе имя всего города, так же как и отдельных его граждан, некоторым образом находится в руках мудериса. В действительности вышеупомянутая хроника отличалась скромными размерами и полной незлобивостью. За пять-шесть лет своего существования она заполнила всего четыре страницы тонкой тетрадки. Ибо большинство городских происшествий мудерис считал недостаточно значительными, чтобы быть внесенными в хронику, и тем самым обрек ее на бесплодное и пустое существование старой заносчивой девственницы.
Четвертым «законником» был Давид Леви, вышеградский раввин, внук знаменитого раввина хаджи Лиачо, оставившего ему в наследство свое имя, положение и состояние, но не передавшего ему ни силы характера, ни ясности ума.
Это был молодой, тщедушный и бледный человек с печальным взглядом бархатисто-карих глаз и неизъяснимой робостью молчальника. Он только что получил сан раввина и недавно женился. Из желания придать себе солидный вид и представительность он носил просторные богатые одежды тяжелого сукна, отпустил усы и бороду, но под нарядами угадывалось хилое и зябкое тело, а сквозь черную редкую бородку просвечивали контуры болезненного детского лица. Он всегда ужасно страдал, когда ему надо было выйти на люди и принять участие в решениях и спорах, все время чувствуя свою незрелость, слабость и убожество.
И вот теперь все четверо в тяжелом парадном одеянии исходили потом, сидя на солнце и не имея сил скрыть свою тревогу и растерянность.
— А ну, закурим еще по одной; время есть, так его и переэтак; не птица же он, с неба на мост не слетит, — балагурил отец Никола по укоренившейся привычке прикрывать веселой шуткой истинные заботы и мысли, свои и чужие.
И, кинув взгляд на Околиште, все снова взялись за табак.
Беседа текла прерывисто и вяло, все время возвращаясь к приезду австрийского коменданта. Все сходилось к тому, что отцу Николе надлежит сказать приветственное слово прибывающему полковнику. Сыпля золотые искры своими сощуренными в улыбке глазами, отец Никола оглядел их всех троих долгим, молчаливым и внимательным взглядом.
Молодой раввин умирал от страха. Струйки дыма медленно пробирались сквозь его усы и бороду, ища выхода на волю, так как у раввина не хватало силы отогнать их от себя. Мудерис был напуган нисколько не меньше раввина. Все красноречие и осанистость ученого мужа как-то разом покинули в то утро мудериса. Он даже приблизительно не мог себе представить, какой у него затравленный и пришибленный вид, ибо высокое мнение о собственной персоне не позволяло ему и в мыслях допустить что-нибудь подобное. Мудерис попробовал было произнести одну из своих цветистых речей, подкрепленных для вящей выразительности округлыми жестами рук, но его холеные руки беспомощно падали на колени, а речь обрывалась и путалась. Он и сам не мог понять, куда девалась всегдашняя его самоуверенность, но напрасно мучился, пытаясь вернуть ее, точно неотъемлемую принадлежность привычного обихода, которая запропастилась куда-то в тот самый момент, когда хозяин испытывал в ней самую острую нужду.
Мулла Ибрагим, несколько бледнее обычного, все же сохранял спокойствие и хладнокровие. Время от времени встречаясь взглядами, мулла и отец Никола как бы скрепляли безмолвный договор. Добрые знакомые и приятели с юности, они и сейчас сохраняли дружеские отношения, насколько вообще возможна была тогда дружба между турком и сербом. Когда у попа Николы в молодые годы были «стычки» с вышеградскими турками и он должен был спасаться бегством, ему какую-то услугу оказал мулла Ибрагим, отец которого был одним из всесильных владык города. Позднее, когда относительный мир снизошел на город и отношения двух религиозных общин стали более сносными, мулла и поп, вполне уже зрелые люди, еще больше сблизились и в шутку звали друг друга «соседями», хотя их дома находились на противоположных концах города. Во время засухи, наводнений, эпидемий и других напастей оба они стояли на посту, каждый среди своих прихожан. Впрочем, и так, встретившись на Мейдане или на Околиште, они приветствовали друг друга и говорили про жизнь, что нечасто бывает между священником и муллой. Указывая чубуком своей трубки на город у реки, отец Никола любил повторять полусерьезно, полушутя:
— За все, что там дышит, ползает и говорит человеческим голосом, наша с тобой душа в ответе.
— Истинно так, верные твои слова, сосед, — заикаясь, подтверждал мулла Ибрагим, — за все мы в ответе.
(Гораздые на меткие словечки горожане иначе и не называли преданных друзей, как только «неразлучная парочка, мулла да батюшка». Это изречение вошло у них в пословицу.)
Они и сейчас, хоть и не обмолвились ни словом, прекрасно понимали друг друга. Отец Никола знал, как тяжело мулле Ибрагиму, а мулла Ибрагим понимал, что попу Николе нелегко. И они продолжали свой немой разговор, столько раз уж за долгую жизнь в разных обстоятельствах поддерживавший их, разговор двух людей, взявших на себя заботу о всех двуногих, сколько их есть в городе, один о тех, которые крестятся, другой — о тех, которые кланяются.
Вдруг послышался конский топот. К ним подскакал стражник на низкорослом коне. Запыхавшийся и испуганный, он еще издалека кричал, точно глашатай:
— Едет, господин едет, вон он на белом коне!
Тут объявился на мосту и мулазим, как всегда, спокойный и, как всегда, одинаково предупредительный и одинаково немногословный.
Дорогой от Околиште взвивалась пыль.
Люди, родившиеся и выросшие в этом глухом углу Турецкой империи, распадающейся Турецкой империи XIX века, конечно, не имели никакого понятия о том, что представляет собой подлинно боеспособное и организованное войско могущественной державы. Все, что приходилось видеть им до этих пор, были разрозненные, отощавшие, кое-как обмундированные и плохо оплачиваемые части регулярной армии или, что еще хуже, согнанные силой отряды боснийских башибузуков, не ведающие ни дисциплины, ни боевого воодушевления. Сейчас перед ними впервые предстала настоящая «военная машина», победоносная, блестящая, уверенная в себе. Такая армия должна была ослепить их и поразить до онемения. По конской сбруе, по каждой пуговице на мундирах солдат с первого взгляда угадывались надежные и прочные тылы, порядок, мощь и изобилие какого-то другого мира, стоящего за полчищами этих парадно разодетых гусар и егерей. Впечатление было ошеломляющим и глубоким.
Впереди выступали два трубача на откормленных, серых в яблоках жеребцах, за ними следовал отряд гусар на вороных скакунах. Холеные, гладкие кони, сдерживая норов, пружинисто и мелко, словно молодые девушки, перебирали ногами. Гусары в высоких киверах с желтыми галунами на мундирах, все, как на подбор, румяные, загорелые щеголи с закрученными усиками, выглядели свежими и выспавшимися, как будто они только из казармы. За ними гарцевала группа из шести офицеров с полковником во главе. Все взгляды сосредоточились на нем. Белоногий конь полковника был выше других и отличался замечательно длинной и изогнутой шеей. За офицерской группой шли на некотором расстоянии части пехотинцев, егерей в зеленых униформах, с перьями, венчавшими кожаные кивера, и белыми портупеями через грудь. Их бесконечная колонна уходила вдаль, покуда хватал глаз, и казалась колыхавшимся лесом.