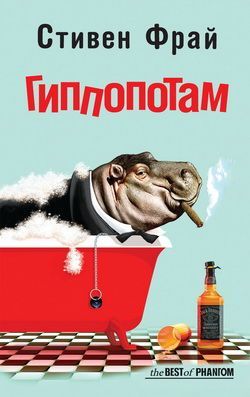Год французов

Год французов читать книгу онлайн
Роман известного американского писателя Томаса Фланагана рассказывает об освободительном движении ирландского народа на рубеже XVIII–XIX веков. Глубокое знание истории Ирландии, ее экономического и политического положения помогло писателю создать правдивое и достоверное произведение о важном этапе борьбы этой страны за независимость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы тем временем добрались до дома, лавируя меж тел, подобно тому как лондонские джентльмены лавируют меж луж. Дома меня с радостью встретили и моя дорогая Элайза, и семьи патриотов-протестантов, нашедших приют в моем доме. Час спустя нас навестил некий полковник Тимминс, очевидно урвав минутку меж делами куда более жестокими. Он заверил нас, что мы и впрямь освобождены, за что я, как мог, любезно поблагодарил его. Должно быть, вид мой был весьма нелеп: я сидел в высоком кресле, с перевязанной головой, точно индийский раджа в тюрбане. Полковник посоветовал не рисковать и не выходить на улицу — редкие мушкетные выстрелы напоминали, что город еще не «очищен» от смутьянов.
До вечера я просидел в кресле, меня мутило, голова кружилась и болела, кровь сокрушающим молотом била в висках. Элайза сварила мне каши, но, лишь взглянув, я махнул рукой: унеси. Немного оправившись, я поднялся с кресла, добрел до окна и тут же пожалел об этом. Дождь перестал, воздух был чист и свеж. Небо — белесое, даже с зеленоватым оттенком, по нему бежали клочковатые облака. Я взглянул в сторону крытого рынка. Там из стены на высоте полуметром больше человеческого роста торчит железный крюк. Сейчас же крюк этот приспособили под виселицу, на короткой веревке с него свисало тело. Я отвернулся от окна и, несмотря на увещевания встревоженной Элайзы, пошел на улицу. Она схватила меня за руку, но не удержала.
На улице по-прежнему оставались тела убитых, только теперь их сложили по обеим сторонам мостовой у стен домов и лавок. А в конце улицы на фоне салатного неба четко рисовался контур повешенного. Я несмело пошел в ту сторону, но по дороге мне повстречался Станнер, один из киллальских йоменов, мужчина средних лет, владелец продовольственной лавки. За месяц плена у него отросла борода, а форма висела грязными лохмотьями.
— Теперь, господин Брум, мы свободны, — крикнул он. — Наконец-то свободны. Слава господу!
— А вокруг смерть, — сказал я, — кровь и смерть.
— Видели бы вы мою лавку! Что с ней за месяц сделали! Месяц были мы в лапах злодеев, и вот божьей милостью на свободе.
— Резне нужно положить конец, иначе мы потонем в крови, — твердил я свое.
Должно быть, я начинал бредить в лихорадке, ибо мне чудилось, что и по стенам домов сочится кровь. А на мостовой стоит лужами, бежит ручьями меж булыжниками.
— Звери они, — отозвался Станнер, — мы в этом проклятом бараке чуть не ослепли. Вышли на свет, так глаза и резануло. И это еще, заметьте, в пасмурный день. И как только они нас своими пиками всех не перекололи, кишки нам не выпустили.
— Вам выпали тяжкие испытания, — сказал я и пошел прочь.
В конце улицы я едва не бежал, расталкивая солдат и зевак. Повешенным оказался прорицатель Дуйгнан. Дотоле я не видал людей на виселице. Лицо его почернело, вывалился язык. Протертые штаны запачканы самым непотребным образом. В чем вина этого безумного и убогого человека? Может, он случаем набрел на солдат и стал нести всякий вздор. А может, и вообще слова не проронил, а лишь стоял и бессмысленно таращил на них глаза.
На меня опять накатила волной дурнота, пришлось прислониться к стене. Возможно, я даже ненадолго потерял сознание, ибо очнулся я оттого, что кто-то положил мне на плечо руку. Я открыл глаза и встретился взглядом с капитаном Купером.
— Вам, господин Брум, здесь не место. Пойдемте-ка, я отведу вас домой. — Как и Станнер, он оброс густой бородой, воспаленные глаза покраснели.
— Еще и вешают, — вымолвил я, — мало им убитых на улицах, они еще и этого повесили.
— И не только этого, — добавил Купер. — На пристани тоже эшафот, военно-полевой суд недолог, тут же и вешают. Безумие. Сущее безумие. Господи, хорошо, что я отсюда уезжаю. Поеду к своей Кейт в Холм радости. Но сперва вас домой доведу.
— Они не имеют права вешать, — сказал я.
Он лишь невесело ухмыльнулся и взял меня под руку.
— Простите, сэр, — не уступал я. — Это мой приход, и негоже мне валяться в постели. Я потребую, чтоб они рассказали, что творится у меня в приходе.
— Да вы по сторонам посмотрите, сами увидите, что творится. И незачем никого спрашивать. Смотреть тошно, кругом кровь и смерть. — Он слово в слово повторил сказанное мной, и вдруг, несмотря на болезненное состояние свое, увидел я, как глубоко потрясен этот человек: вот-вот сдадут у него нервы и он ударится в слезы.
— Мои-то йомены и то меня не слушали. Куда уж английским солдатам! А самые жестокие — шотландцы. Видел я, как им ничего не стоит череп раскроить. Хорошо, что сейчас этому конец. Стали хоть военно-полевым судом судить.
— И вешать, — прибавил я.
— Хотите, оставайтесь здесь, среди мертвяков, — вдруг злобно выкрикнул он, — а с меня хватит. Домой еду, а за мундиром пусть нарочного присылают. — Он отпустил мою руку и медленно отошел.
Я же бросился вниз по улице в другую сторону, к пристани, но остановился подле тела Ферди О’Доннела. При жизни он казался выше, статнее. Он лежал, повернувшись головой к улице. Я заплакал. Крупные слезы покатились по щекам. Может, он бы и не пощадил йоменов, как знать, о чем он думал в последний час. Я взял его руку и приложил к своей щеке, по которой все бежали слезы.
— Может, вы вспомните что-либо еще? — спросил офицер.
— Я уж и не помню, чего говорил, а чего нет, — ответил Баррет. — Не все ли равно.
— Соберитесь с мыслями, — посоветовал я, — сейчас вам нужно помолиться.
— Писать умеете? — спросил офицер. — Расписаться сможете?
Я положил ему на плечо руку.
— Оставьте его в покое, молодой человек. Пусть немного побудет наедине с самим собой.
— Сколько времени у меня осталось? — спросил Баррет.
— До рассвета.
— Так уже светает, — бросил кто-то.
В хижине, однако, было темно, лишь тускло горела Свеча.
— Я останусь с вами, — пообещал я Баррету.
— Много б отдал, чтоб сейчас исповедоваться, — вздохнул он. — Какой же черной и грешной предстанет душа моя на Страшном суде.
— Молитесь, искреннее покаяние, может, и спасет. Господь милосерден, — сказал я.
Вдруг Баррет улыбнулся мне.
— Странно я исповедуюсь. Протестантскому священнику и английскому офицеру. Но и этого, поди, хватит.
— Ну что ж, — решил офицер. — Мы оставим вас ненадолго. — Он встал и сразу растворился во мраке.
— Я побуду с вами, — напомнил я. — Я приду в самом конце. Вам будет не так одиноко.
Баррет промолчал.
Мы с офицером вышли из хижины, остановились. Ночная мгла уже рассеивалась.
— Жаль, что у бедняги нет священника, — вздохнул офицер. — Они, кажется, верят, что святые отцы в силах прощать им грехи.
— Вроде бы, — кивнул я. — Если видят истинное покаяние.
— Как по-вашему, он рассказал нам правду? — недоверчиво спросил он.
— Отчасти, — ответил я. — Кое-что — правда.
— И священнику он исповедовался бы так же?
— Не знаю.
21
УЙМУТ, АНГЛИЯ, КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ
Как и повелось с 1789 года, осенью король приехал в Уймут на воды. Двумя днями раньше офицеры с фрегата «Аргус» преподнесли ему пики, привезенные из топей Баллинамака. Его Величество взял одну из них, подивился, как грубо сработано: на ясеневое древко насажено неумело выкованное в одной из кузен Мейо плоское лезвие с коротким кривым зацепом у основания. Наверное, таким же оружием пользуются дикари на африканском побережье. Его Величество покачал головой и велел присовокупить эти пики к своей коллекции диковинок.
Гонец с донесением от Нельсона застал короля на прогулке. Гонец за семнадцать часов проскакал верхом сто тридцать миль. В Лондоне уже знали о радостной вести. Накануне о ней возвестили колокола собора Святого Павла, перезвон подхватила вторая церковь, за ней — еще, и вскорости колокола били по всему городу. Ночью город был расцвечен огнями, с Тауэра салютовали пушки. Его Величество дважды прочитал донесение, после первых трех слов его охватило волнение, второй раз он читал, уже успокоившись. К изумлению собравшихся на прогулочной площадке, король вдруг зарыдал. Крупные слезы катились по щекам, все его грузное тело содрогалось. Присутствующие решили, что весть о поражении. Потом, еще более изумив всех, король стал читать донесение вслух, голос его был тих и неразборчив, и вместе с тем угадывалась волнующая нотка облегчения.