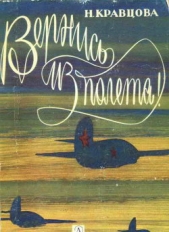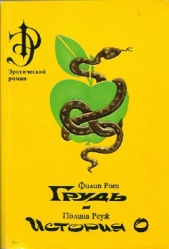Ненависть
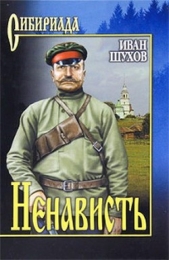
Ненависть читать книгу онлайн
Горе в семье богатея Епифана Окатова: решил глава семейства публично перед всем честным народом покаяться в "своей неразумной и вредной для советской власти жизни", отречься от злодейского прошлого и отдать дом свой аж на шесть горниц дорогому обществу под школу. Только не верят его словам ни батрачка Фешка, ни казах Аблай, ни бывший пастух Роман…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Зачем понесло меня к ней?» — подумал Татарников про Кармацкую. Он и в самом деле не понимал сейчас, зачем очутился тут в эту непогожую, темную ночь, в тишине точно вымершего дома. Татарников, придвинув к себе наполненный до краев портвейном бокал, долго крутил его за хрупкую высокую ножку, пристально вглядываясь узкими татарскими глазами в искрящееся при мерцании свечей золотистое вино. Потом он торопливо отодвинул его от себя, пролив несколько капель лимонной жидкости на белую полотняную скатерть.
Кармацкая, неслышно вошедшая в комнату, где притаился Лука Лукич, молча увлекла его в кухню и там закрылась на крючок. — Не пьет — вот беда!
-Это я вижу. Худо угощаешь, стало быть… -Старалась. Не выходит. Похоже, заподозрил что-то. И вообще мне все это надоело…
-Ну, ну у меня! Не хватало ишо, чтобы ты распустила вместе с ним нюни… Как хошь, а выпускать его отсюдова нельзя.
-Это понятно и мне. Только что же теперь придумать?
-Подумай. Ты — баба!
-Я свое придумала — не получилось. За тобой очередь…
-Топор есть под рукой? — вдруг спросил Лука
Лукич шепотом.
-Что ты, что ты, Лука Лукич! Топором?! У меня в доме?! — воскликнула, отпрянув от Луки Лукича, побледневшая Лариса.
-Не шуми. Не закусывай удила. Я пушку дома добыл. А потом, без пальбы сподручней…
-Нет. Нет. Этого я не могу. У меня — нервы. Я с ума потом тут в доме одна сойду…— шептала в смятении хозяйка, клятвенно скрестив на груди узкие руки.
— Не сойдешь. Одну тебя не оставлю… Вместе в Туркестан убежим. А там — в Персию подадимся…
Мешкать некогда. Говори, где топор? — коротко потребовал Лука Лукич.
Тогда она, стремительно бросившись к Луке Лукичу, обвила его багровую бычью шею гибкими руками и, прижавшись к нему, взволнованно зашептала:
— Нет. Нет. Нет. Что угодно, только не это… Я придумаю. Я сама. Слышишь?!
Но Лука Лукич, рывком разомкнув окольцевавшие его шею трепетные женские руки, отбросил хозяйку прочь и тут же оторопел от приглушенного окрика за окошком:
— Счастливо оставаться, господа террористы! До скорого свидания. Там — записка.
То был голос Татарникова. И пока Лука Лукич сообразил выскочить из кухни на улицу, было уже поздно. Стоя на крылечке под ночным дождем, Бобров услышал удалявшийся за оградой дробный топот некованых конских копыт.
Лариса, метнувшись в столовую, нашла на столе записку. На вырванном из блокнота клочке бумаги, прикрывавшем фужер с портвейном, предназначавшимся Татарникову, было написано несколько строк косым, нервным почерком. Близоруко прищурив зеленоватые глаза, Лариса прочитала:
«Я выхожу из игры. Навсегда. Но показания по делу Стрельникова оставлю. Луку Боброва ознакомят с ними в ГПУ, и в ближайшее время! Татарников».
Дважды перечитав записку, Кармацкая решила утаить ее от Луки Лукича и растерянно заметалась по комнате, не зная, куда бы ее спрятать.
Но в это время в столовую вошел Лука Лукич и сказал, опускаясь на оттоманку:
— Ну что ты кидаешься из угла в угол, как рысь в клетке? Присядь-ка вот рядом. Это полагается у русских людей перед дальним путем-дорогой…
— А что? Какая опять дорога? — спросила настигнутая врасплох Лариса, позабыв о зажатой в кулаке записке.
— Дорога неблизкая, неисповедимая…— сказал Лука Лукич и тут же спросил: — Чем он там нагрозил, в этой писульке?
Лариса протянула смятый клочок бумаги. Лука Лукич, повертев записку, сказал, возвращая ее Ларисе:
— Не при мне писано — не разберу. Читай вслух, тебе его рука знакомее…
Несколько поколебавшись, Лариса прочла с запинками, торопливо глотая слова.
— Понятно. Вяжи узлы. Да лишнего не набирай. Через час-полтора пароконную бричку за тобой пришлю с надежным человеком.
— Это что же — бежать, что ли? — спросила чуть слышно, опускаясь на венский стул, Кармацкая.
— Нет, сиди, дожидайся гепеушников сложа руки,— насмешливо проговорил Лука Лукич, поднимаясь с оттоманки и застегивая кожаную куртку на все пуговицы.
— И куда же?
— Куда глаза глядят…
— Все же?
— У кучера спросишь дорогой. Мимо не провезет. Куда надо доставит.
А ты?
Обо мне не горюй. Увидимся.
Где же?
В надежном месте.
Ничего не пойму. Шутишь ты, что ли?
— С гепеушниками шутки плохие…
Л если я никуда не поеду? — полувопросительно, полуутвердительно сказала Лариса.
- Поедешь. Не с моим послом в бричке, так в черном вороне. Я вчера у одного аульного тайноведа на бобах ворожил. Тебе две дороги выпали. Одна беглая — на край света. Другая казенная — до острога. Выбирай! — сказал Лука Лукич и тотчас же вышел, не захлопнув вслед за собой распахнутой настежь двери.
Лариса долго еще сидела на стуле с тревожно приподнятой головой, прислушиваясь к пропадающему вдали топоту конских копыт — знакомой иноходи бобров-ского жеребца. Потом, вскочив как ужаленная, она раскрыла громоздкий, окованный медью старинный сундук и, с лихорадочной поспешностью роясь в нем, принялась выбрасывать из него прямо на пол груды белья и платья. Затем отобранное добро так же лихорадочно, рывками стала вязать в узлы, рассовывать как попало по дорожным кожаным саквояжам и чемоданам.
Лука Лукич не подвел. На дождливом рассвете пароконная бричка, крытая цыганским шатром, стояла у черного входа в дом, и неразговорчивый мужик торопил хозяйку грузить вещи.
Часа через два Татарников, доскакав до центральной усадьбы Степного зерносовхоза, спешился на задворках своей квартиры. Закинув за луку повод, он бросил взмыленного коня прямо посреди двора. Потом бесшумно прошел к себе в комнату, захлопнул дверь на крючок, нащупал в темноте табуретку, устало опустился на нее и, облокотившись на стол, прикрыл ладонью глаза.
У него кружилась голова, ныли натруженные стременами ноги, звенело в ушах, тоскливо сжималось сердце.Так, неподвижно, с полуоткрытыми глазами, просидел он довольно долго, а потом зажег свечу, достал из-за печки потрепанные пыльные сапоги и осторожно извлек из них искусно заделанные в подошвы давние свои письма, адресованные в Харбин — Маше Тархановой.
Придвинув свечу, Татарников внимательно перечел эти письма и решил их сжечь. Однако тотчас же раздумал и, бережно свернув, вложил в большой — казенного образца — плотный конверт. Обмакнув перо и немного помедлив, он, жалко улыбнувшись, четко вывел на конверте: «Харбин, до востребования, Маше Тархановой».
За стеной трижды прокуковали старинные стенные часы.Татарников прислушался. Было тихо. Дождь прошел. Умолк ветер. Чуть внятно потрескивала догорающая, оплывшая свеча. Татарников вынул из кармана крошечный, полированный, тускло поблескивавший при свете свечи браунинг и долго разглядывал на ладони его тупое и маленькое дуло. Затем он осторожно, точно хрупкую вещь, положил револьвер на стол, опять настороженно к чему-то прислушался и, лихорадочно закурив папиросу и жадно глотая дым, принялся быстро писать на листке, косо вырванном из блокнота.
«Директору Степного зерносовхоза К. А. Азарову. Прежде всего прошу извинить меня за эту покаянную записку. Отнюдь не случайно обращаюсь я в такую минуту к Вам. Передо мною лежит пистолет, который совсем недавно я должен был разрядить в Вашу голову. Сначала я не сделал этого из трусости, теперь же — из-за искреннего уважения к Вам. Вы принадлежите к породе людей удивительных, называющихся большевиками. И за это я ненавижу и уважаю Вас. Ибо и ненавидеть и уважать можно только сильных!
В Ваших руках не только настоящее, но и будущее. Вы победили. Я, как и прочие люди моего класса, пытался еще сопротивляться, однако признаюсь, что всякое сопротивление с нашей стороны теперь уже запоздало. Оно неумно, бессмысленно. Собственно, это втайне сознают все люди моего лагеря, но не у всех хватает мужества открыто признаться в этом, и потому многие из нас обольщают себя нелепыми надеждами на победу над вами. Некоторые из них продолжают бороться и, вероятно, не скоро еще сложат малонадежное свое оружие. К сожалению, я не могу разделить позиций врагов Ваших, крах которых для меня, например, очевиден. И вот я сделал вывод: ежели меня пристрелит за трезвое отношение к действительности тот же Лука Бобров, пристрелит так же тайно и ловко, как пристрелил он инженера Стрельникова, это будет нелепая и постыдная смерть. Гораздо будет честнее и проще расквитаться с собой самому. Тех же из нашего брата, у кого не хватит решимости поступить так, как поступил я — Ваш классовый враг, побежденный Вами,— тех, у кого не хватит мужества разрядить последнюю пулю в собственную башку, Вы, понятно, смирите и уничтожите по всем законам классовой справедливости.