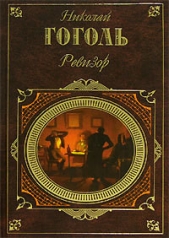Совесть. Гоголь
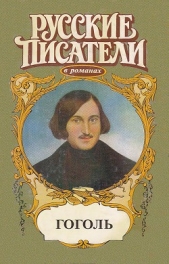
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну уж нет, после размышлений о пушкинских замыслах невозможно было и думать соваться к нему с пустяками, он же машинально взялся за борт сюртука и с неохотой промямлил:
— Да что вы, какое придумалось...
Пушкин поправил в камине дрова, подбросил ещё два полена в самый огонь, облокотился на каминную доску, скрестил ноги и насмешливо уставился на него:
— Экая лукавая физиономия, сейчас увидишь хохла! Да меня, брат, на мякине не проведёшь: не дураком явился на свет! Чай подадут, и айда мне читать, хотя бы и вздор!
Уже вовсе провалилась сквозь землю охота показывать что-либо Пушкину, хотя в самом деле только за этим пришёл, однако ослушаться Пушкина он не смел никогда, ёжился всё, одёргивая на груди как-то неловко сидевший сюртук, и твердил, опустив глаза долу:
— Когда же придумывать? Вышел в отставку, набралась куча дел...
Крутя волосы на макушке, наматывая на указательный палец короткую прядь, Пушкин насмешливо проговорил:
— Отставка, дела, хорошо, как же порядочному человеку, выйдя в отставку, возможно засидеться без дел, только какие же могли в твоей-то отставке приключиться дела?
Как ни быстр он бывал в таких случаях отбиваться, когда вдруг ловили его и без церемоний притискивали к стене, точно требовали подать кошелёк, как ни ловко выставлял натуральнейшие причины и резонные изъяснения, если желал ускользнуть от назойливых приставаний и просьб почитать, действительно не находилось никакого занятия, чтобы проницательный Пушкин поверил в него, да и как было с этим человеком хитрить, когда видел насквозь решительно все своим безошибочным ясным умом. Он молчал и глядел обречённо, как заяц, схваченный за уши мощной рукой великана и поднятый вверх от родимой земли.
В синем безукоризненном фраке и в шёлковом строгом жилете ступил камердинер и отчётливо, громко провозгласил:
— Самовар на столе-с.
И удалился степенно, ни одной морщинкой не переменившись в чрезвычайно значительном и важном лице, точно министр при дворе.
Пушкин отскочил от камина, подхватил его дружески под руку. Они отправились в небольшую столовую. Пушкин со смехом частил по-французски:
— Вот, полюбуйся, один из верных моих кредиторов, должен ему, пожалуй что, сотен пять. Бери хоть сейчас, даром отдам для комедии, хотя и сам мог бы изрядно заработать на нём. Каков персонаж?
Они сели друг против друга за круглым столом. Пушкин правой рукой, украшенной перстнями, разливал дымящийся густой золотисто-коричневый чай из голубого стройного чайника, придерживая двумя пальцами левой высокую крышку, так что тугая струя круто падала в широкие белые чашки.
Ему ужасно хотелось, чтобы эта крутая струя была бесконечной, падая вечно, точно фонтан, спасая его пустяки от насмешек, если не от полного посрамленья, и чтобы при этом у чашек не было дна.
Взглянув лукаво, смеясь широко, Пушкин возбуждённо покрикивал:
— Старших не обманывай, нехорошо! Что-то карман поприпух! Да не тот, а другой, который придержал в кабинете! Достань да читай! Твой юмор люблю! В мозгу горит от него, как от горсти красного перца!
Он следил, как внезапно оборвалась струя, наполнив чашку до самого края, и с крутого носика стройного чайника одна за другой скоро-скоро, точно бежали вперегонки, упали две тёмные капли, расплывшись кругами на ровной поверхности чая.
Он спотыкался:
— Что же карман, ничего, что карман, без кармана человеку нельзя, уж такая на карманы мода пошла, выйти в люди без кармана зазорно, вот что нынче в свете карман, а я так, ничего, кой-что было начал, готового не приготовилось ни строчки, а карман, что ж, карман, точно, есть, как же у меня карману не быть?
Пушкин втиснул голубой чайник между бледно-жёлтым печеньем и сахаром, осторожно поднёс свою полную чашку к пухлым губам, вплотную к нему другой рукой придвинул румяные булочки, в самом деле присыпанные сверху сахарной пудрой, и они с этими булочками стали пить чай, переговариваясь о самых будничных вздорах, так что он даже решил под конец, что Пушкин уже не заставит читать, он даже подумал, что булочки несколько пресны и сухи, такие ли булочки на милой Украйне пекут, время всё-таки было, так он ещё подумал о том, что, приведись ему угощать, отыскал бы на лотках не таких забияк и угостил бы на славу, в самом деле ужасно любя угощать, но тут Пушкин отодвинул от него эти булочки, скаля белые зубы, со смехом грозя:
— Гляди, вторую не дам!
Он посмотрел умоляюще:
— Не извольте неволить, труды мои мне отвратительны.
Перестав улыбаться, Пушкин вонзился широко и властно прямо в глаза:
— А ты не хандри, не маленький, чай! Выкладывай, что случилось с пера, разберёмся потом!
Это прикрикиванье рождало какую-то терпкую радость в груди. Он и бодрей становился от пристального внимания Пушкина, и острей ощущал ничтожество всех своих начинаний, и нетерпеливей хотелось прочитать хоть что-нибудь именно светлому Пушкину, и он ещё более робел перед ним, и смотрел, и смотреть не мог в его лучезарные умные очи.
Дерзостью, уверенной силой светились эти лучезарные умные очи на небольшом, некрасивом, однако необычайно выразительном лице сатира и демона, так что и лица было почти не видать. И не верилось более, что какой-нибудь час назад этот Пушкин метался по своему кабинету в тоске и ронял бессвязные речи. Тоска вся была разбита, тоска была пренебрежительно, властно отброшена прочь, от тоски не осталось и тени. Пушкин весь так и горел радостным нетерпеньем.
Он явственно видел этот пожар нетерпенья и силился догадаться и догадаться не мог, каким таинственным образом легко и бесследно Пушкин одолевал свою душевную слабость, а ведь она налетала, кружила и мяла, тоже ведь был человек. Умело ли притворился вдруг перед ним? Натура ли была такова?
Заглянул ли поглубже в себя и вновь обрёл свою было обмелевшую силу? Как знать?
Он завидовал этой лёгкости, этой неиссякаемой силе души, в своей мягкой и робкой душе не находя и следа такой силы, как ни обшаривал, как ни искал, чувствуя неодолимую жажду поскорей напитаться этой единственной, вдохновляющей силой души.
Он считал, что сначала надобно бесстрашно признать свои немощи и заблужденья, но решимости ещё недоставало на прямое признанье, и он дивился, как просто, естественно, без всяких затей получалось это у Пушкина, тогда как его душил ложный стыд при одной мысли о том, чтобы добровольно предстать перед всеми, а пуще перед самим собой заблудшим, бессильным и в той моральной грязи, которую уже обнаружил в себе. Ему бы сделать это как-нибудь неприметно, ему бы чью-нибудь маску надеть.
Однако с Пушкиным невозможно лукавить, какие с Пушкиным маски. Заговорил он почти против собственной воли, лишь успев облечь свою искренность в безличную и потому безопасную форму, и от этого голос его прозвенел:
— Вы же знаете это ужасное чувство — быть недовольным собой. Может быть, счастье тому, кто не ведает этого тяжкого чувства. Человек, в котором оно поселилось, весь превращается в нерешимость и в злость. Такой человек теряет единство намерений, единство души. Он становится в оппозицию к самому себе. Он превращается в предмет собственных надругательств и способен проклясть, убить, уничтожить себя за своё же бессилие сделаться лучшим.
Пушкин взглянул на него исподлобья, опустил чашку с недопитым чаем на стол и с растерянной лаской сказал:
— Ну вот, это я заразил тебя моим сплином. А ты и не слушай меня, тебе что! Поболтал маленько, а всё чепуха. Все беды мои пустяковые. Плюнуть на них, да и баста!
Он с искренней болью вздохнул, не в силах снова приняться за чай:
— Не пишется мне, всё какая-то пустота, одна наглая мелочь мечется мне под перо.
Пушкин зорко глядел, темнея и хмурясь, и голос раздавался отрывисто, едко:
— А ты работай! Не пишется — ты работай! Пустовато выходит — опять же работай! Обидели кровно — тоже работай! Прокляни себя в пух и в прах — и работай! Вечно работай, всегда и везде! Нам с тобой распускаться нельзя! Времени мало у нас!