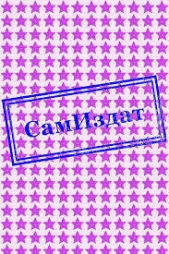Петербургский изгнанник. Книга вторая

Петербургский изгнанник. Книга вторая читать книгу онлайн
Исторический роман о судьбе А. Н. Радищева, известнейшего российского исследователя, этнографа, писателя конца XVIII - начала XIX века и его современниках - Сумарокове, В. Пушкине и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Радищев представил, как рождался Илимск. Он уже знал древнюю историю этого города, рассказанную канцеляристом Кириллом Хомутовым. Начало острожка заложил атаман Иван Галкин в 1631 году. Атаман поднялся по Илиму с наказом енисейского воеводы поставить на Лене острог.
Экспедиция Галкина остановилась на полпути там, где надо было переваливаться через горы на Лену, и основала зимовье для временного пристанища. Галкин назвал его Ленским Волоком. В том же году атаман по реке Куть добрался до Лены и заложил там Усть-Кутское зимовье. Позднее Ленский Волок укрепился и стал называться Илимским острогом. Через десять лет здесь побывали первые московские воеводы Пётр Головин и Матвей Глебов.
К концу столетия Илимск вырос в город. Он осел чуть подальше прежнего острога вниз по реке. История освоения сибирских земель по Ангаре, Байкалу и Амуру как бы прошла через него, то военными походами, то научными экспедициями, то торговыми караванами с Якутией и Китаем.
Так продолжалось до тех пор, пока не был найден другой более короткий путь на Восток, не повзрослели и не окрепли другие города и среди них первое место не занял Иркутск. Сейчас Илимск был уже тихим, заштатным городом, уступившим свою былую славу другим городам. У него осталась история, и о ней напоминал старинный острог, которым любовался Радищев. Илимск замыкали высокие горы и дремучая тайга, спускающаяся по их склонам вплотную к реке. И эта тайга, с виду мрачная и угрюмая, имела свою дикую красоту. Такого могучего океана лесов, простирающихся на сотни вёрст вокруг, Александр Николаевич ещё нигде кроме Сибири не видел и видеть не мог.
Не в том ли была вся прелесть природы, его окружающей. Ничто не могло сравниться по силе с сибирской тайгой кроме необозримых просторов вод Балтийского моря, которые он любил и которое казалось ему своенравным и непокорным человеку.
И люди, что жили в Сибири и, здесь, в Илимской глуши, были тоже сильны и упрямы душой, держались много свободнее и независимее, чем в центральной России. Он уже знал, как они покоряли свой край, оберегали свою волю, свой покой дикой свободы. Внешне чуть грубые, они имели добрые сердца, были доверчивы и если встречали в жизни хорошего человека, то тут же открывались ему.
Эти мысли пришли к Радищеву, когда он смотрел на небольшие избы в два-три окна, что составляли центр Илимска и в которых жили посадские казаки и пашенные крестьяне. Среди приземистых изб особо выделялись пятистенные купецкие дома. Один из них принадлежал чиновнику казённой палаты по питейной части Дорохову и имел во дворе большой склад. В складе хранилось вино. Его хватило бы, чтобы споить тысячи душ на сотни вёрст вдоль Илима.
В других домах жили здешние купцы — Савелий Прейн и Клим Малышев, торговавшие мелкими товарами. Клим Малышев являлся комиссионером иркутского купца Мыльникова. Он скупал на илимском базаре пушнину и в мае отправлял её в Иркутск.
В самом центре Илимска, ближе к площади, красовалась новая Спасская церковь. Она была двухэтажная, довольно обширная и оригинально выстроенная. Над церковью вздымались четыре купола, обитые жестью с вызолоченными крестами. Окна нижнего этажа были с фигурными решётками — слюдяные, а верхнего — из разноцветного стекла. Спасская церковь чем-то напоминала собор Василия Блаженного, хотя и была деревянной. В архитектуре её сказалось мастерство безымянных зодчих. Церковь была обнесена густым садиком из чернолесья, за которым стояли домики её служителей.
В безветренном мартовском воздухе высоко в небе держались столбики дыма, поднимающегося из печных труб. Радищев видел горные хребты и густую, синеватую тайгу. Даль тайги и горы тянули к себе. Александр Николаевич решил прогуляться на лыжах в верховья реки, чтобы полнее представить себе окрестности Илимска и написать об этом своим друзьям.
Радищев заметил, что по дороге, со стороны Усть-Кута, в долину спускается оленья упряжка. Он стал наблюдать за ней. Когда упряжка поровнялась со Старым острогом, можно было уже различить седока на нартах. Он то и дело подстёгивал оленей длинным хореем и покрикивал на них. Оленья упряжка стала ещё ближе, и Александр Николаевич по однотонному голосу седока-тунгуса понял, что он пел и, сидя на нартах, раскачивался в такт едва уловимой своей песни.
Но вот олени подбежали к башне, и Радищев признал в тунгусе своего знакомого Батурку. Он окликнул его. Батурка на минуту перестал петь и, не видя человека, окликнувшего его, опять затянул песню. Александр Николаевич быстро сошёл вниз и встретил тунгуса, когда его упряжка въезжала в ворота башни.
— Здравствуй, Батурка! — приветствовал его Радищев.
— А-а, друга, Радиссев! — обрадованно проговорил тот, сдерживая оленей.
— К тебе ехал. Садись нарты, друга.
Александр Николаевич сел к нему и сказал, что ехать надо к воеводскому дому. Батурка взмахнул над головой длинным хореем и ласково прикрикнул на оленей:
— Хой, хой!
Радищев спросил у Батурки о здоровье жены, детей.
— Хоросо помогал, — коротко сказал тунгус и прищёлкнул языком. Он достал из-за пазухи парки — меховой шубы — кисет, сделанный из оленьего пузыря, завязанный ремешком, набил трубку табаком и, выбив огнивом искру, закурил.
— Баба на ноги стала, — продолжал он свой рассказ о выздоровевшей жене, которой оказал помощь Радищев, проезжая мимо тунгусского стойбища.
Александру Николаевичу было приятно слушать тягучую речь тунгуса, чувствовать, как медленно складываются его простые фразы, не сразу находятся нужные слова. Ему было хорошо сидеть рядом с Батуркой в нартах, смотреть на бегущих оленей, постукивающих рогами, наслаждаться новизной впечатлений.
— Твой лекарство злых духов прогнал… Сильный лекарство.
Он улыбнулся Батурке и подумал об умственной отсталости тунгусов от русских. «Могут ли они быть равными?» — спрашивал Радищев сам себя и отвечал положительно: «Могут и должны быть равными. Природа без различия одарила всех людей способностями к жизни. Но, чтобы уровнять в человеке умственные силы, нужно воспитать его, привить тунгусам, как и другим отсталым народам далёких российских окраин, культуру, коренным образом преобразовать их жизнь, освободить их от диких поверий и гнёта, как русского крестьянина от пут крепостничества». И мысли о тунгусе Батурке приводили Радищева вновь к единственному выводу — к необходимости замены самодержавия народовластием.
— Хоросо помогал, — как бы заключил этой похвалой свой незамысловатый и короткий рассказ о выздоровлении жены Батурки и остановил оленей у ворот воеводского дома.
— Приехали.
Тунгус соскочил с нарт, открыл ворота и ввёл оленей во двор.
— Матка тебе. Мало-мало нагулял жир, молоко бери…
Александр Николаевич попытался было внушить Батурке, что это слишком дорогой подарок и что он лечил его жену потому, что хотел помочь больной, а не за вознаграждение.
Тунгус мотал большой головой в шапке из лисьих лапок и не хотел ничего признавать.
— Подарок надо делать…
И когда Александр Николаевич в конце концов уступил его настойчивости и согласился взять оленью матку, Батурка обрадовался, как маленький, и проплясал вокруг нарт, а потом заговорил о том, что ему для большого друга ничего не жаль. Попроси он оленью упряжку, Батурка отдаст ему упряжку, скажи, чтобы мешок беличьих шкурок принёс, и Батурка принесёт ему целую понягу белок. Старики говорят: большой друг дороже всего на свете для тунгуса. Он поможет ему, когда будет трудно.
Радищев пригласил Батурку зайти в дом.
— Однако зайти можно, — сказал он и запросто, словно часто бывал в его доме, прошёл за ним в рабочую комнату, не обращая никакого внимания на солдат и прислугу, повстречавшихся ему в коридоре.
Батурка сбросил свою парку на пол и остался в лёгком кафтане, сшитом тоже из оленьих шкур и представляющем не что иное, как целую оленью кожу, передние ноги которой, снятые с животного «чулком», служили ему рукавами. Борты кафтана не сходились и спереди был надет далыс — передник, весь разукрашенный полосками цветного сукна, меха и конского волоса.