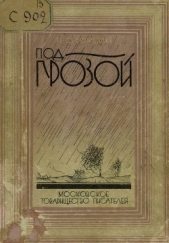Перед грозой
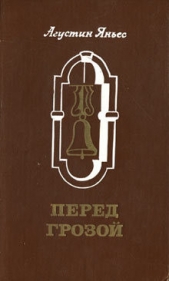
Перед грозой читать книгу онлайн
Роман прогрессивного мексиканского писателя Агустина Яньеса «Перед грозой» рассказывает о предреволюционных событиях (мексиканская революция 1910–1917 гг.) в глухом захолустье, где господствовали церковники, действовавшие против интересов народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он ограничился созданием хора из мужчин и мальчик коп исключительно для нужд церковной службы; женщин он старательно избегал; когда посещал дома или торговые заведения, то всегда лишь с определенной целью, согласовав ее со священником. И если казалось, он позволяет себе развлечься приятной беседой, — что, впрочем, не мешало ему держаться строго, особенно когда он разговаривал с такими персонами, как политический начальник, аптекарь, стряпчий, и другими, подозреваемыми в том, что они не слишком-то правоверны и не придерживаются свято моральной чистоты — то лишь потому, что некоторых вопросов приходилось касаться обиняками, а в горькое лекарство следовало добавлять сироп.
И вот уже восемь лет падре Абундио провел в этом селении; лишь дважды побывал за это время в столице штата и архиепископской канцелярии — ездил по делам; тщетно его друзья из Сапотлана приглашали приехать к ним отдохнуть, он так и не собрался. Года три назад получил он новое назначение — в Лагос; [19] но с его согласия сеньор приходский священник Мартинес и кое-кто из прихожан съездили в Гуадалахару, и по их ходатайству назначение отменили. «Не иначе волшебным зельем тебя опоили в этой глуши», — говаривали друзья, пытавшиеся вытащить его отсюда, перевести в какое-нибудь местечко получше. Совсем недавно он узнал, что его хотели устроить капелланом в самой столице, и тогда он написал, чтобы друзья прекратили все хлопоты такого рода.
В минуту досуга, наедине с самим собою, вспоминает он заученное когда-то стихотворение, имени автора которого он не помнит:
4
Заметив, что возле него, — кто знает, уж сколько времени, — почти касаясь плечом, стоял король козней и склок, самый бесстыдный и ненавистный из людей, возмутитель его покоя и пакостник, вредящий его делам, — да, это был он, уловленный в первый же миг уголком глаза, — и ощутив себя рядом с презренным сутягой, дон Тимотео Лимон весь передернулся. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, как передернулся Порфирио Льямас, когда шум чьих-то шагов заставил его обернуться и столкнуться нос к носу с доном Романом Капистраном, который встал вплотную за его спиной; и, как нарочно, знахарь дон Рефухио Диас примостился рядышком с Мелесио Исласом, который обвинял знахаря в том, что тот погубил его сына. И в течение всей проповеди Порфирио представлял себе, что дон Роман держит пистолет нацеленным прямо в его спину. (Чего он еще ждет, почему не стреляет?.. Дай боже, чтобы не узнал…) Дон Тимотео и Мелесио, как и Порфирио, вначале почувствовали, что кровь отлила у них от лица и в горле перехватило, а затем кровь бросилась в голову и руки сжались в кулаки: так и хотелось тут же расправиться со своими заклятыми врагами, захватив врасплох, раз уж судьба свела их здесь. Предсмертный хрип, закатившиеся глаза, отчаянные конвульсии, крики: «Мама! Отец!» — мольбы о спасении, словом, все, что сопровождает предсмертную агонию — для избавления от нее у знахаря не было средств, — всплыло в памяти торговца Мелесио, который отдал бы дону Рефухио собственную жизнь во имя спасения жизни своего сына; он вспомнил, как сын цеплялся то за мать, то за отца, словно пытался укрыться от смерти, как у него, уже лишенного речи, глаза в ужасе вылезали из орбит, страшно, незабываемо… а теперь этот дон Рефухио, этот… этот здесь, рядом, и как всегда нагло невозмутим! Убийца! Бандит! Бандит, похитивший его счастье навсегда!
Во время проповеди соблюдалась приличествующая тишина, по, как огонь по нитке, натертой порохом, весть шла от одного к другому, рождая тревогу; все потеряли голову, забыв заповедь о начале и конце человека. Завершились покаяния перед ужином, и уже нельзя было скрыть общую напряженность, заговор всех против всех, назревающий мятеж. Как «эти» могут сесть вместе с ними за один и тот псе стол? Как может укрыть их одна и та же крыша? Назревал бунт воспоминаний, сверкали молнии «обид и оскорблений»: несправедливые штрафы, угрозы, позор тюрьмы, напрасные обжалования судебного решения, вымогательство судейских. Здесь почти не было ни одного, кто не испытывал бы враждебных чувств к тем людям: «Скот у меня отобрали… — Продали с торгов мою земельку… — Вексель-то от меня припрятали… — Двадцать песо выжал у меня, а вылечить не вылечил… — А в тот день вызвал меня, выбранил да пригрозил бросить в каталажку. — Думал, уж конец мой настал, когда он пистолет мне прямо в грудь… — Лицо у него было словно деревянное, когда он в конце концов объявил мне, что, мол, вылечить нельзя, девочка уж совсем задыхалась, а ему-то что, стоял и смотрел… — Кто знает, может, они пришли только на проповедь… — Господи, хоть бы ушли… Неужто останутся… — На все милость божья…»
Во время трапезы все как-то уладилось. Нельзя было, однако, не заметить, что многие не желали сидеть близ начальника, лекаря и стряпчего, однако вкрадчивая обходительность падре Рейеса все поставила на место: дон Роман Капистран остался среди друзей: дон Тимотео Лимон — по левую руку, а дон Сеферино Толедо — по правую, дон Ромуло Варела — напротив; дон Рефухио Диас устроился между двух здоровяков, а дон Паскуаль де Перес-и-Леон оказался среди соседей, бедность которых не подвергала и не подвергнет их судейским козням.
Сто двадцать четыре наставляемых ужинали в полном молчании. В молчании их сердца — пока еще возбужденные — начали утихомириваться. В молчании скрещиваются их взгляды и мало-помалу проникаются доверием, вызванным общим желанием спасти свои души. В молчании, в странном молчании, как только закончится ужин, двинутся они, словно призраки, по мрачным переходам в часовню, а через полчаса возвратятся на места, отведенные им для сна. Сколько их, проходя через патио, воззрится на небо, на звезды, а думать будет о семье, о заботах, обо всем, что оставлено недоделанным!
— Оставьте мысли о жене, о детях, о стаде, о посевах, о долгах… У демонов недостанет коварства отвлечь вас от того, к чему привлекло вас милосердие господне! Особенно в первые часы, в первую ночь, не будет у вас ни секунды, чтобы возмущать приют этого святого дома неподходящими мыслями, злопамятством, мирскими заботами. Подумайте о том, что вы уже умерли и незачем беспокоиться об оставленном вами. Сие сбудется если не в это мгновение, так завтра. Неотступность демонов ужасна, вы чувствуете ее сейчас. Покойтесь, как в могиле. В эту первую ночь… — Слова священника во время последнего наставления были кратки и категоричны; казалось, он прочел все мысли в молчании и мраке того дома, где многократно отдается эхо, где возникает впечатление, что вы попали в другой мир, далекий-далекий, откуда никогда не выйдешь и где пет ни времени, ни пространства.
5
Внизу, всего в нескольких метрах от замершего в молчании Дома покаяния — столь наглухо отгороженного от мира, что здесь не слышен собачий лай, не доносится даже колокольный звон и вовсе не долетает сюда невнятный шум селения, — на кухнях, галереях, в еле освещенных патио, гостиных и почивальнях печаль или страх, страх и печаль переполняют души женщин. «Отчего ты печалишься, ведь ты знаешь, что он наедине с господом и отдается душой благочестию, а не это ли важное всего?» — спрашивает свекровь или золовка молодую невестку, спрашивают сестры и подруги новобрачную, впервые оказавшуюся ночью в одиночестве. Однако даже старухам, дожившим до золотой или серебряной свадьбы, женщинам с многочисленным потомством их дом кажется опустевшим. Да, женщины знают: их мужья и сыновья, отцы и братья… женихи… наедине с богом, но это знании отнюдь не освобождает женщин от печали, не избавляет их от какого-то неясного желания; должно быть, это дьявольское искушение, столь тяжкое и у многих столь отчаянное, что им хотелось бы выбежать на улицу, кричать или исчезнуть, рыдая во мраке. Эта ночь, эти ночи и дни являют им силу и тайную власть над ними их мужчин, о чем весь год они старались забыть, и делали вид, что не помнят, и всегда стыдились признаться даже самим себе.