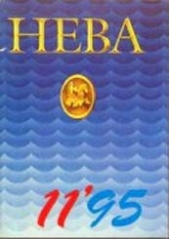А. Разумовский: Ночной император
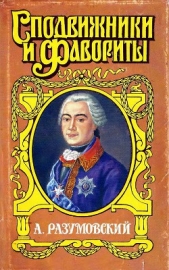
А. Разумовский: Ночной император читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она встала у кресла на колени и внимательно, проникновенно заглянула ему в глаза:
— Таким, по рассказам матушки Марфы, и представляла вас… свет батюшка…
Он попробовал рассердиться:
— У богатого человека всегда находятся непотребные детки. Ты Линда?.. Нет, не Линда. Сказывай! Что тебе надо?
Она выпрямилась и положила иконку на доску камина.
— А больше ничего и не надо, свет батюшка. Разве что поцеловать на прощание. — Она гибко пригнулась и чмокнула его в лоб, сразу вспотевший. — Сами взденете иконку или?.. Матушка, умирая, завещала вам на грудь вздеть… Долго же я собиралась, истинно непотребная! Все духу не хватало…
Она вознамерилась было исполнить свое желание, но он коротко отмахнулся:
— Сам… Ступай с Богом! Как звать хоть? Ведь ты не Линда? Марфушей, говоришь, мать прозывалась? Рыбачка?..
— Я в честь матушки вашей названа — Наталья я… Наталья… только Григорьевна! Прощайте, свет батюшка!
Она легкой, быстрой походкой вышла за двери, которые перед ней сами собой растворились.
— Когда что надо будет — не стесняйся… дочка!..
Дочка… Давно забытой рыбачки Марфуши?
Дочка?.. Из рыбацкого, балтийского шалаша?..
Опять очередное наваждение!
Но иконка-то, иконка? Он дотянулся до каминной доски, на ладонь положил и долго рассматривал истершееся изображение Богородицы с едва заметным очертанием младенца на руках. Время стирает даже такие лики!.. Иконку носили на груди, она терлась о суконное ли, о холщовое ли платье… Но не одна же в православном мире?..
Что-то от смуты душевной заставило на обратную сторону взглянуть. Там на вылощенной меди еще можно было прочитать: «От Григория Наталье в день свадьбы казацкой».
Он поцеловал изнанку иконы, потом и Богородицын лик и стукнул кочергой, что было знаком для камер-лакея.
— Я слушаю, ваше сиятельство.
— Срочно пошли за Кириллом Григорьевичем.
— Слушаюсь, ваше сиятельство, — ответил лакей, заменивший спившегося Павлычку. — Сей минут пошлю.
Кирилл не замедлил с Мойки прискакать к Аничкову мосту.
— Что случилось, брате? — нагнулся он к креслу, встревоженный.
Алексей хотел рассказать про чудесное возвращение иконки, но вместо этого спросил о том, о чем уже все давно было переговорено:
— Как подвигается родительская часовенка?
Кирилл не мог скрыть удивления:
— Брате? Но она уже построена. Пора освящать. Вот я и думаю: а не посадить ли и тебя в мою гетманскую карету? С подставными гетманскими лошадьми быстро домчим.
— Карета!.. Ты когда отправляешься?
— Завтра, с первой зарей. Соскучились мои хохлачи. Для них я гетман все-таки, заступник… А-а! Надоело это гетманство!
— Не говори так, гетман малороссийский. В Петербурге ждут не дождутся, когда ты бросишь булаву. Но знай: с твоим уходом и гетманство прекратится. Опять петербургские чиновники будут править нашей ридной Украйной…
— Знаю, знаю, брат. Но меня никто не освобождал от президентства в академии, да и от командования Измайловским полком. Хотя чего же? Измайловский полк дело свое сделал — Екатерину Алексеевну на трон посадил… можно бы командира и коленкой под зад!
Алексей нахмурился:
— Ревнив ты, Кирилл. Женское любострастие — само по себе, а уважение само. Неуж не уважает нас, Разумовских, государыня?
Нечего было отвечать Кириллу.
— Наверно, и я, брат, старею.
— Не рановато ль?.. Я вон и то на медведя с Сумароковым собираюсь. В Москве сговаривались.
Глаза Кирилла не умели врать. Они грустно смотрели на старшего брата, у которого оставалось, при многочисленных-то поместьях, одно пристанище — это вот бархатное, обжитое кресло. Медведи ему!..
— Да, да, — понял Алексей. — Один, конечно, поедешь на Черниговщину. Часовню на могиле отца-матери освяти и пожертвование ежегодное для бедных установи. Как сам положишь. И на мою болезную долю. Ступай. Отдохни перед дорогой.
Кирилл на придвинутом стуле посидел еще перед камином — и вдруг заметил шнурком свисавшую иконку.
— Это ж… это ж матушкина! — порывисто схватил он ее. — Каким чудом она сохранилась?
— Чудом, Кирилл, вот именно. Сейчас не расспрашивай ни о чем… как-нибудь в другой раз расскажу. Устал я чтой-то… Ступай. С Богом! Поклонись от меня Лемешкам.
Кирилл тягостно, несколько раз останавливаясь, уходил. Было у него, видимо, нехорошее предчувствие. Но старший брат смотрел требовательно и неукоснительно. Вздохнув, Кирилл махнул рукой и вышел.
Как оказалось, в последний раз…
XIV
Черниговский казак, певчий придворного хора, управитель цесаревны Елизаветы, обер-егермейстер и первый камергер императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал и граф Священной Римской империи, самый знатный петербургский хлебосол умирал, не имея уже сил вкусить и хлеба, не только что вина…
К нему без зова, единственно по сердечному велению, прискакал из Москвы бывший генеральс-адъютант Сумароков.
— Погоди умирать, мой генерал, — по праву дружбы просто сказал он после первого целования. — Мы еще на медведя не сходили! Я еще оду о тебе не написал! Как можно без оды?..
— Верю, друг мой, нельзя, — ожил немного Алексей. — В самом деле, и на медведя сходим! Подай-ка мне, что ли, костыль.
Он уже месяца три не вставал с постели, а тут, в присутствии Давнего друга, оперся — и нате! Стойко держался у кровати, как раненый гренадер при ружье. Елизавета частенько баловала его подарками, порой самыми неожиданными. От нее же достался и костыль… положим, называвшийся тростью. Неужели женским любящим взглядом прозревала, что ему когда-нибудь потребуется эта массивная трость? Костыль-держатель! Увитый золотой резьбой, он не этим, конечно, привлекал внимание — своей удивительной рукоятью. Там из оникса был барельеф Елизаветы; сирена с открытой грудью и бриллиантовой короной на голове. Когда Алексей опирался своей широкой ладонью, пальцы ласкали такую знакомую грудь. Было что-то ожившее: не так ли в жизни при Елизаветушке? Все тридцать лет она служила ему царственной опорой, сиречь костылем, даже в бытность бедной цесаревной, и вот поддерживает при последних шагах скорой и неизбежной встречи…
Чувствительный Сумароков выдернул из-за обшлага платок и прикрыл глаза. Ему не хотелось, чтоб старик видел волнение, но как скроешь душу?
— Не плачь, мой друг. Видишь, иду к Елизаветушке. Соскучился…
— Господи, Алексей Григорьевич! Ты еще можешь шутить?
— Шутя прожил жизнь, шутя и помирать надо. Вот оду… или как там грустное называется?..
— Элегия…
— Элегию эту самую пиши без шуток.
— Напишу, Алексей Григорьевич. Но ведь мы еще сходим на медведя? Ты поправляйся, не огорчай меня…
Сумароков не замечал, что говорит с Алексеем Григорьевичем уже как с потусторонним. Никогда раньше, при своей древнедворянской воспитанности, не допускал «тыканья», а тут само собой выходило:
— Ты живая память о прошлом царствовании — как нам без тебя?
— Да уж как, Алексашенька, придется, — и на костыле не в силах стоять, опустился опять на кровать. — Что бы тебе такое подарить на память?.. А, табакерку! Дар моей государыни — и о ней, и обо мне память.
Он дернул один из многих шнуров, свисавших к кровати, розовый, как заметил Сумароков. Сейчас же предстал не слуга — личный секретарь, довольно молодой человек, даже с какого-то бока вроде и родственник графу.
— Мой милый, найди табакерку… Да, да, с портретом Елизаветы.
Она любила, чтоб на подарках были ее портреты. Женщина, чего ж стесняться своей красоты. Эту табакерку из ляпис-лазури [14], осыпанную бриллиантами, среди которых был и очень крупный, делали уже в последние годы, но на портрете Елизавета была, как всегда, молода. Алексей поцеловал портрет, прежде чем передать табакерку Сумарокову.
Недолгая беседа, а утомила. Закашлялся, замахал руками, чтоб друг уходил. Не хотелось ему оставаться в памяти умирающим…