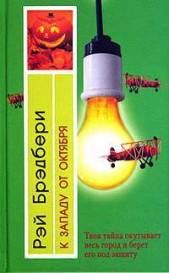Последние капли вина

Последние капли вина читать книгу онлайн
Мисс Мэри Рено родилась в 1905 г. в семье лондонского врача. Окончила колледж св. Хью в Оксфорде, затем работала медсестрой и одновременно начала писать. Ее первый роман "Цели любви" был опубликован в 1939 г. Появление романа "Последние капли вина" вызвало удивление и большой интерес, так как это было её первое произведение о древней Греции. До тех пор она черпала темы для своих книг из современной жизни. Среди самых известных её книг - романы "Возничий", "Король должен умереть", "Маска Аполлона". Мэри Рено стала членом Королевского литературного общества в 1959 г., а через два года - президентом ПЕН-клуба Южной Африки. Умерла 13 декабря 1983 г
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У граждан прибавилось работы. Доносчикам было обещано вознаграждение от Города и назначен специальный совет, дабы выслушивать их. Вскоре посыпались сведения - но не об осквернении герм, а обо всех, кто, возможно, сделал, или сказал, или подумал что-либо святотатственное. Мой отец заявлял во всеуслышание, что это - подкуп подонков с целью заставить их выступить против верхов и что Перикла от этого стошнило бы.
Мы с Ксенофонтом, лишь бы сбежать от подавленного настроения в Городе, проводили свободное время в Пирее. Вот здесь всегда можно было найти что-то действительно новое: какой-нибудь богатый метек из Фригии или Египта строит себе дом в стиле своего родного города или возводит алтарь одному из богов, которого и узнать нельзя в иноземной одежде, а то и с собачьей головой или рыбьим хвостом; или же в Эмпорий доставили груз вавилонских ковров, персидской ляпис-лазури, скифской бирюзы либо, к примеру, олова и янтаря из диких гиперборейских краев, известных лишь финикийцам. В те времена наши серебряные "совы" [44] были единственной монетой, которую признавали по всему свету. На широких улицах можно было увидеть нубийцев с кусками слоновой кости в мочках, оттягивающими уши до самых плеч, длинноволосых мидян в штанах и расшитых золотыми монетами шапках, египтян с накрашенными глазами, одетых только в юбки из жесткого полотна и ожерелья из самоцветов и бус. Воздух был душен от запахов тел иноземцев, пряностей, пеньки и смолы; чужие языки звучали вокруг, словно звери разговаривали с птицами; приходилось догадываться о значении слов, глядя на говорящие руки.
Алкивиаду предъявили обвинение в тот день, когда он предстал перед Собранием, чтобы доложить о готовности флота к отплытию.
Обвинитель, имевший при себе раба, сначала попросил неприкосновенности, а затем - чтобы удалили всех непосвященных. Когда это было сделано, раб громко повторил главные Слова, которые, как он заявил, были осквернены Алкивиадом в его присутствии.
На следующий день после этого я не увидел в палестре Сократа.
Само по себе его отсутствие не показалось бы мне чем-то необычным, ибо он имел обычай разговаривать со всевозможными людьми по всему Городу. Я не беспокоился до тех пор, пока не вышел на беговую дорожку и не увидел среди зрителей группу его друзей, озабоченно переговаривающихся между собой. Мне сразу пришло в голову, что кто-то обвинил его, потому что он учил Алкивиада и отказался пройти посвящение в мистерии. Тут к остальным присоединился лекарь Эриксимах. Я не мог больше оставаться в неведении. На бегу я припал на одну ногу, наклонился, словно повредил ее, и сошел с дорожки. Наставник был занят и не подошел ко мне. Я сел недалеко от друзей Сократа и навострил уши.
По-видимому, Эриксимаха спросили, не заболел ли Сократ, - Критон озабоченно говорил, что прежде тот ничем не хворал. Он закончил словами:
– Нет, Сократ находится дома, приносит жертвы и молится за войско афинян.
А Хайрофонт добавил:
– С ним говорил его демон.
Они переглянулись. А я сидел тихонько, ухватив руками "больную" ногу, и старался быть незаметным, как гнездо на дереве.
И пока я так сидел в задумчивости, не слыша даже шума на беговой дорожке, на меня вдруг упала чья-то тень. Подняв голову, я увидел Лисия, сына Демократа. Когда я уселся там, он находился среди друзей Сократа, но почти сразу ушел.
– Я видел, ты подвернул ногу, - заговорил он. - Сильно болит? Надо перевязать тряпкой, смоченной в холодной воде, пока не распухла.
Я, заикаясь, поблагодарил его, захваченный врасплох и ошеломленный тем, что такой важный человек заговорил со мной. Поднять глаза я не решался. Видя это, он опустился на одно колено; у него в руках была мокрая тряпка, которую он, наверное, только что принес из бань. Он подождал немного, потом спросил:
– Я перевяжу?
И тут я опомнился - ведь на самом деле с моей ногой ничего не случилось. Мне стало страшно стыдно, что он это обнаружит и подумает, будто я сошел с дорожки и сел тут из слабости или боязни, как бы меня не обогнали; я сразу вспыхнул весь - и лицом, и телом, мне стало жарко, и я сидел, не в состоянии ответить что-нибудь. Я думал, моя невоспитанность вызовет у него отвращение, но он, все так же протягивая тряпку, сказал мягко:
– Ну, если предпочитаешь, перевяжи сам.
Все это время Мидас, считая, что под надзором наставника я нахожусь в полной безопасности, предавался безделью. Но тут он углядел, где я, примчался, запыхавшись, чуть ли не силой вырвал тряпку из рук Лисия и сказал, что все сделает сам. Он всего лишь выполнял свои обязанности, но мне его поведение в тот момент показалось просто варварским. Я поднял глаза на Лисия, не находя слов для извинения. Но он, не выказав никакой обиды, улыбнулся мне на прощанье и отошел.
Я был так рассержен и смущен, что оттолкнул от себя Мидаса и проворчал, мол, нога уже не болит и я могу бежать. Мои слова произвели на него очень неприятное впечатление, за что его вряд ли можно винить. По дороге домой он поинтересовался, приму ли я порку от него, или же он должен сообщить отцу. Я мог представить, какую историю он раздует из этого случая, и потому выбрал первое. Хотя он не сдерживал руку, я стерпел все молча; терпел и с ужасом думал: неужели Лисий решил, что я - неженка?
Тем временем Город, в нетерпении вытягивая шеи, дожидался, пока Алкивиада поставят перед судом. Аргивяне и мантинейцы выступили с открытым протестом: они заявляли, что пришли сражаться под началом Алкивиада, и угрожали отправиться домой. Моряки ходили мрачнее ночи, и триерархи [45] опасались бунта. Те, кто громче всех требовал суда, вдруг притихли, и на первый план выступили другие ораторы - хотя никому не было известно, кто их нанял. Объявляя себя друзьями обвиненного, они не сомневались, что он сумеет представить отличную защиту, когда будет призван к ответственности, и клонили к тому, что следует позволить ему отправиться на войну, которую он сам так талантливо подготовил. Люди ожидали, что он ухватится за эту возможность, но он выскочил перед Собранием, со страстью и красноречием требуя, чтобы его подвергли суду немедля. Никто не знал, что делать. В конце концов было поддержано описанное выше предложение.
Флот отплыл через несколько дней.
Некий друг моего отца держал в Пирее большой склад для товаров и разрешил нам, ребятам, забраться на крышу. Глядя сверху вниз на отплытие героев, мы чувствовали себя богами. Все вспомогательные суда с припасами уже ушли, чтобы собраться у Керкиры [46]; в бухте остались только ярко раскрашенные стройные триремы. Свежий летний ветер с моря вздымал их кормовые флаги; орлы и драконы, дельфины, вепри и львы вскидывали головы, когда высокие носы кораблей взбегали на волну.
И вот в Городе начались приветственные крики - они доносились до нас, словно звуки далекого оползня, и постепенно приближались по дороге между Длинными стенами; затем шум охватил Пирей; все громче звучала музыка и ритмичное громыхание щитов о бронзовые нагрудники. Наконец мы разглядели движущиеся между Стенами гребни шлемов, целую реку, длинную змею, сверкающую по весне новой чешуей, бронзой и золотом, пурпурными и алыми красками. Над ней словно плясали искры света, когда утреннее солнце вспыхивало на наконечниках многих тысяч копий; облако пыли светилось, словно истолченное в порошок золото.
На крышах вокруг нас болтали между собой чужеземцы, дивясь красоте и могуществу войска, которое Город еще сумел выслать после стольких лет войны. Двое нубийских рабов закатывали глаза, сверкая белками, и вскрикивали: "Ох! Ох!". Мы орали, пока в глотке не пересохло. Голос Ксенофонта звучал уже почти как у взрослого мужа.
Воины рассыпались вдоль воды и по набережным; они поднимались на корабли по деревянным сходням или грузились на лодки, пока борта не начинали зачерпывать воду, и переправлялись на корабли. Друзья и родственники уходящих в поход спешили проститься с ними в последний раз. Там старик благословлял сына, тут мальчик бежал к отцу с каким-то подарком, который отправила ему мать; здесь разлучались двое любовников, ибо юноша был слишком молод, чтобы отправиться вместе со своим другом. В тот день не все слезы остались дома уделом женщин. Но мне это событие представлялось величайшим из всех празднеств, лучше даже, чем Панафинеи в Великий год [47]. Как говорит пословица, сладка война для тех, кто ее не испытал.