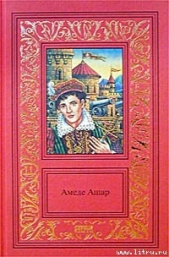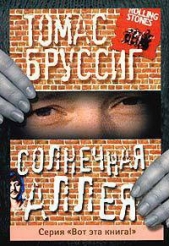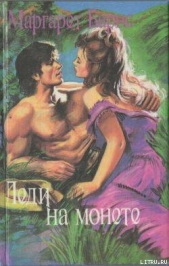Королевская аллея

Королевская аллея читать книгу онлайн
«Королевская аллея» — это жизнеописание второй жены короля Людовика XIV, госпожи де Ментенон. Талантливая стилизация автобиографии незаурядной женщины, чья необыкновенная судьба стала увлекательным сюжетом романа, принесла Франсуазе Шандернагор мировую известность. Книга издана во многих странах и получила ряд почетных литературных премий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В свободные от хозяйственных забот минуты я отдыхала у себя в комнате, где с удовольствием беседовала с госпожою де Глапьон — нынешней начальницею Дома, идеально отвечающей моим замыслам.
Ее с раннего детства воспитывали в Сен-Сире; в пятнадцать лет она играла в «Эсфири» и пленила своей красотой и благородством манер немало молодых придворных и пажей Короля. Поговаривали даже о некой интриге… пришлось мне строго побранить виновную. Однако, как бы Мадлен де Глапьон ни блистала внешностью, подлинным сокровищем была ее душа, нежная, чистая и не находившая в этом мире достаточно пищи для снедавшего ее огня. Двадцати лет она, в порыве благочестия, постриглась в монахини, но быстро разочаровалась в своем призвании; потом страстно, как умела только она одна, привязалась к своей подруге, молоденькой учительнице младших классов, однако та вскоре умерла от грудной болезни, и госпожа де Глапьон, самоотверженно ходившая за больной, впала в ужасное отчаяние. Мне пришлось спешно приехать из Версаля в Сен-Сир, чтобы оторвать ее от покойницы, которую она обнимала с громкими рыданиями; скоро в Доме началась эпидемия кори, и госпожа де Глапьон принялась пить из чашек больных и ловить дыхание умирающих, в надежде заразиться и поскорее уйти из этого мира. Тогдашняя начальница, не понимавшая этой пылкой души, была бессильна врачевать ее; мне понадобились долгие часы бесед с нею, чтобы уговорить несчастную оставить свои безумства и вернуться к себе в комнату.
В ту пору ей было двадцать пять лет, и она являла собою именно тот тип монахини, какою могла бы стать и я, если бы в детстве согласилась принять постриг, как меня к тому вынуждали. Я прониклась дружескими чувствами к бедняжке, и с этого времени мы начали регулярно переписываться, а в каждый мой приезд подолгу беседовали; она знала, что я ее хорошо понимаю, но не задумаюсь, если нужно, и побранить. Мало-помалу мне удалось вернуть ей душевное равновесие, которое она не смогла найти ни в религии, ни в дружбе с товарками по Сен-Сиру; я заинтересовала ее сперва музыкой, к которой она имела большие способности, а затем географией, которую она также прекрасно освоила; шаг за шагом, я внушила ей чувство долга, состоявшего в обучении наших воспитанниц. Вскоре она так увлеклась преподаванием, что стала лучшей учительницей нашего Дома и три года назад, в возрасте сорока лет, была избрана его директрисою, при всеобщей любви своих подруг и обожании пансионерок. Но и ставши начальницею, госпожа де Глапьон сохранила в душе нечто от прежней сумасбродной девчонки: она все еще любит упиваться печалью и легко находит для того поводы; к счастью, ей удается скрывать свою меланхолию от посторонних, — о ней знаю лишь я одна…
— Довольны ли вы Сен-Сиром, мадам? — иногда спрашивает она.
— Вполне довольна, дитя мое… Но Провидение, дабы спасти нас от гордыни, никогда не дарует нам полного успеха в наших предприятиях; мне очень хотелось бы видеть моих воспитанниц супругами и матерями семейств, а зятьев, увы, так мало!..
И верно, — к великой моей печали, мне удавалось пристроить замуж лишь две трети наших «невест», да и то женихи не всегда были дворянами, — чаще из богатых буржуа. Большинству мужчин не хватает ума понять, что лучше жениться на девушке образованной, воспитанной и благочестивой, нежели на богачке; приданое, выделяемое Королем для воспитанниц Сен-Сира, многим казалось чересчур скромным. Девушки, не нашедшие себе мужей, покидали заведение в двадцать лет, чтобы уйти в монастырь или вернуться в отчий дом; им выплачивали небольшой пенсион. Я часто оплакивала, в обществе госпожи де Глапьон, бесплодную судьбу этих последних.
Зато я остерегалась делиться с нею другим: я всегда сожалела, что Домом управляют монахини. Всякий раз, как я сталкивалась с узостью монастырского воспитания, меня терзали сомнения, — верно ли было, двадцать лет назад, уступить настояниям епископа Шартрского и господина Фенелона?
В один прекрасный день я узнавала, что наставницы отняли у девочек игральные кости, которые я подарила им, в числе прочих игрушек, для развлечения на переменах; причина была та, что кости сыграли свою роль в Страстях Господа нашего. Я возражала так: «Прекрасно, сударыни; думаю, на этом вы не остановитесь и завтра же вырвете все гвозди из ваших дверей и все шипы из ваших роз. Ибо, если я не ошибаюсь, они также послужили делу распятия Иисуса Христа!» В другой раз мне пришлось разбранить этих дам за то, что девочки, слушая мои рассуждения о таинстве брака и рождении детей, о чем говорится и в Евангелии, краснели до ушей или глупо хихикали. Но совсем уж я разгневалась, узнавши, как одна «желтая» пансионерка, вернувшись из приемной после свидания с отцом, жаловалась, что он осмелился при ней произнести слово «штаны». Тотчас я собрала вместе и наставниц и детей. «Какое-такое неприличие находите вы в слове «штаны»? — вопросила я. — Оно означает всего лишь предмет одежды и ничего более. Быть может, оно кажется вам непристойным? В таком случае, мне вас жаль, дети мои; не знаю, как вы будете жить дальше, слыша подобные слова на каждом шагу. Запомните: я решительно не желаю, чтобы вы вели себя, как глупенькие монастырские барышни!» И тут же я заставила девочек громко и без хихиканья перечислить все слова, которые, по мнению их наставниц, звучали «грязно». По правде говоря, я сама, после пребывания в урсулинском монастыре, грешила этой ложной стыдливостью, но господин Скаррон очень быстро излечил меня от нее, заставив называть все вещи своими именами. И этого хватило, чтобы я зареклась теперь превращать Сен-Сир в очаг «прециозного» языка.
Однако тупоумие наставниц не ограничивалось строгим надзором за манерами; однажды им вздумалось выгнать двух пансионерок, мать которых осудили за какое-то преступление на смертную казнь. Не знаю, что мною двигало — мое ли собственное былое положение дочери осужденного преступника или естественная приверженность слову Божьему, — но при этом известии вся кровь во мне вскипела; я тотчас послала в Сен-Сир слугу с длинным письмом, вопрошая, уж не полагают ли дамы, что дети должны отвечать за грехи родителей, не этим ли примером они собираются воспитывать милосердие в душах своих подопечных, и для того ли основан Дом Короля, чтобы избавляться от самых несчастных и обездоленных в тот миг, когда они более всего нуждаются в наших советах и помощи. Приказ об исключении был отменен, но я поняла, что ни на минуту не должна ослаблять бдительность. Сен-Сир был моим королевством, но увы, королевством монастырского толка.
— Мадам, чувствуете ли вы себя здесь счастливою, несмотря на наши промахи? — робко спросила меня госпожа де Глапьон наутро после описанного скандала.
— Не волнуйтесь, дитя мое, — отвечала я, — по крайней мере, в вашем обществе я наслаждаюсь истинной радостью, какую вселяет открытое лицо и добрый взгляд. Вам известно также, что мне приятно не видеть здесь дам с носами, набитыми черным табаком и с черными от того же табака платками в карманах, как это нынче модно в свете. Молодежь, не живущая в Сен-Сире, мне столь же отвратительна, как я сама, а это говорит о многом… Вы не знаете Двора, а потому не можете оценить всей прелести уединенной жизни.
Мне же ваша «тюрьма», как вы ее называете, предлагает самую прекрасную свободу. Я чувствую себя свободною на иной, особый лад, — то есть, могу запереться в этих двух комнатах вместо того, чтобы рыскать по всему свету, из дворца в дворец. Ибо здесь, моя дорогая, я у себя дома…
Умер господин де Мо, и господин Фенелон, и господин де Бовилье. Умер герцог Вандомский, а следом за ним и маршал де Буффле. Умер мой духовник, епископ Шартрский, и Бонтан, первый камердинер Короля, и Бурдалу, и Мансар. Все уходили в мир иной, а я оставалась, — правда, оставалась в таком уединении, что обо мне едва вспоминали. Придворные более не видели меня, — в лучшем случае, замечали мельком, как я выбираюсь из портшеза или всхожу по лестнице. Я превратилась в живой скелет, и если этот скелет еще мог передвигаться, то лишь на манер призраков, коим не нужно людское общество; напудренный, весь в поту, разбитый усталостью, он позволял таскать себя из кареты в карету, из постели в постель. В этой мучительно долгой жизни меня утешало лишь одно то, что в королевство возвращалось благоденствие.