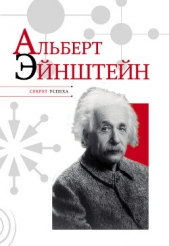Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна

Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна читать книгу онлайн
Роман-версия о любви Первого человека, как его называют, двадцатого столетия, создателя Теории относительности, отца атомной бомбы Альберта Эйнштейна и жены известного русского художника Маргариты Коненковой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она часто при переводе смягчала или даже меняла смысл сказанного мужем, но теперь не стала, потому что понимала, откуда язвительность: не от боли за сынов Израилевых, а от беспомощности и унижения. И бюст замечательный доделывал с трудом. Несколько раз бросал, капризничал, но о главной причине смятения речи не заводил, боялся услышать ее ответ. Боялся вот уже почти четыре года.
— Для еврейского народа еврейский национальный дом не роскошь, а абсолютная необходимость. При той угрозе, которая исходит от Германии, все интеллигентные люди просто обязаны думать о судьбе евреев.
— В России пять миллионов крестьян доведены до голодной смерти, о них думать не надо? Почему вы молчите, почему потворствуете диктатуре?
— В России это не произведет никакого эффекта.
— А в Германии произвело?
Леон перестал пускать дым и слушал с величайшим интересом.
— Если бы я жил в СССР, то ради социальных достижений принял бы диктатуру, хотя и неохотно.
Ответ не из удачных. Генрих и сам почувствовал это, смешался, а кроме того, по ее интонациям ощутил, что она им недовольна, и решил подлизаться.
— Значит, демократия вам не годится? — не отставал Детка.
— При диктатуре людьми движут ложь и насилие, при демократии — одна ложь.
Он сегодня был явно не в ударе, и Детка решил развить наступление.
— А какие социальные достижения в России вы имеете в виду?
— Да… там есть улучшения… например — искоренена проституция.
— Жаль!
— Дуся! — укоризненно сказала она. И Детка понял, что укоризна относилась не столько к последнему восклицанию, сколько ко всему повороту разговора. Тема была слишком скользкой.
— Все же у евреев есть историческое право на земли в Палестине, вы согласны со мной? — обратился к ней Леон. Он определенно хотел втянуть в разговор и ее, и это рассердило.
— Согласна. Но согласитесь и вы, что право на свое государство имеют также и курды, и цыгане, и баски, может быть, и кто-то еще… И потом, почему именно Палестина? Арабы будут недовольны.
— Именно так считают многие, например Роберт Милликен. Он считает, что сионисты подвергают опасности мир во всем мире, создавая антагонизм между мусульманским и христианским миром. — Голос Леона был абсолютно ровен, тон абсолютно лоялен, но ее провести было не так легко: она услышала призвук то ли насмешки, то ли высокомерия.
— Я согласен с этим Милликеном, хотя не знаю, кто он такой, — заявил Детка.
Странно, иногда он вдруг понимал сказанное, но с разговорным не получалось никак.
— Милликен — физик, нобелевский лауреат, работает в Калифорнии, — с поспешной даже любезностью пояснил Генрих и вдруг весело фыркнул: — В тридцать первом я вызвал замешательство тем, что вместо Палестины в качестве земли обетованной стал пропагандировать Перу. На мой вкус, Перу более подходящая страна: меньше ядовитых змей и население рассеянно. Но они все вцепились в Палестину.
Это, конечно, было не только предложение мира, это было и своего рода извинение, и она уже готова была принять оливковую ветвь, перевести разговор на Мачу-Пикчу — таинственный город в Перу, который она мечтала увидеть, но Леон сказал:
— Если мне не изменяет память, именно вы где-то сказали так: «Мы, евреи, слишком стремимся жертвовать своими отличительными чертами характера и складом ума в пользу конформизма».
Это было напрасно. Даже Детка промолчал. А Генрих, пробормотав что-то вроде «Кажется, говорил, не помню, не помню…», покинул террасу. В коридоре виолончелью пропел его голос:
— Эстер, вы не помните, куда я положил бандероль от Борна?
Вошел к себе в комнату. Окно открыто, и слышно, как Эстер с интонациями строгой медсестры:
— Вы опять забыли принять фуросемид.
— На фуре ехал Бен-семит и принимал фуросемид, — и взрыв его удивительного детского смеха.
«Кажется, обошлось», — подумала она, но уже через минуту поняла, что ошиблась: в зелени тропы, ведущей в лес, мелькнула его светлая рубашка. Значит, он не стал отдыхать, как обычно, после обеда, а ушел гулять. Он любил прогулки в одиночестве, но только не в ущерб дневному сну.
Она принесла на террасу блюдо с малиной, вернулась в дом и, ощущая спиной взгляд Эстер, через заднюю дверь вышла из дома.
Этот двор она помнит до мельчайших деталей. Помнит почему-то всегда залитым закатным солнцем. Направо — большой сарай, даже, скорее, навес, потому что стена фасада отсутствует. В этом сарае Мадо хранила свои скульптуры, а Генрих из старых вещей, найденных на чердаке, устроил «этнографический музей». Там были деревянная расписная кровать, часы с кукушкой, супница времен войны Севера и Юга (ручки отбиты) и картина на клеенке, изображающая пруд с лебедями и женщину в лодке. Волосы у женщины были настоящие, очень черные, густые и грубые. Мадо говорила, что они сделаны из конского хвоста, а Генрих убеждал, что это настоящие индейские и принадлежали они красавице-скво. Каждый год он собирался перевезти картину в Кингстон, местный умелец поместил ее в широкую буковую раму, но каждый раз картину в суматохе сборов забывали.
За сараем в ряд росли деревья черноплодной рябины, поэтому когда поспевали ягоды, там по утрам царили суета и щебет: птицы прилетали кормиться. Генрих особенно любил красногрудых синих птиц, кажется, их звали кардиналами, а еще он любил дикие розы, росшие у колодца, и большое дерево сахарного клена возле заднего крыльца.
Он как-то трогательно смутился, когда она сказала ему, что он истинный патриот графства Франклин, потому что и клен, и красногрудая птица, и даже дикая роза — все это символы графства.
— Странно, — сказал он вдруг ночью, — странно, я никогда не знал места, которое было бы для меня родиной. Может, это и есть моя родина? А может, моя родина — ты?
Они очень любили друг друга той ночью, он неумело заплетал ее волосы в косу, распускал и потом снова заплетал, и у них было много ночей, когда они очень любили друг друга.
А теперь она стояла и медлила идти за ним, потому что чувствовала — что-то было не так, нехорошо в разговоре на террасе.
За зарослями дикой малины тропа поворачивала вниз, в лес, в царство «смеющейся лисицы». Они несколько раз встречали эту странную лисицу, и зверь не боялся их. Лисица отходила с тропы в лес и оттуда смотрела на них, улыбаясь.
— Какая-то нехорошая у нее улыбка, — сказал Генрих. — Что-то она знает о нас, чего мы не знаем.
Кроны высоких деревьев здесь всегда закрывали солнце, и земля была всегда влажной, потому что тропа спускалась к неширокой, но очень резвой речке. Они назвали ее Камой в честь реки ее детства. На другой берег Камы, к маленькой песчаной отмели на высоте, были перекинуты три бревна. На отмели он любил умываться и даже чистил ледяной водой зубы. На другом берегу тропа снова круто поднималась вверх и через лес выходила на большое поле. Там, на этой тропе, она впервые почувствовала одышку и дала себе слово бросить курить. Не сдержала, конечно.
Но это было в другой раз, лет через пять, когда она много времени проводила в офисе Общества помощи России и мало двигалась. А тогда она медленно спускалась вниз к речке и увидела, как он движется ей навстречу своей скользящей походкой, будто едет на роликах. Они встретились на середине моста из бревен. Ни разминуться, ни повернуть назад.
Лицо его было грустным и по-женски мягким, и она вдруг совсем некстати вспомнила, как один мальчик, увидев его, спросил: «Это миссис Гольдштейн?». Она невольно улыбнулась, и он улыбнулся в ответ с такой обезоруживающей готовностью, что она, нежно и осторожно взяв его руку, поцеловала в ладонь. Потом, повернув к свету, стала рассматривать линии на ней.
— Ты веришь в хиромантию?
— И в телепатию тоже. Я предчувствовал, что встречу тебя именно здесь, на этом мосту.
— Прости, если я причинила тебе боль, я не хотела.
— В двадцатом в Берлине меня поливали грязью со сцены, а я сидел в ложе и аплодировал.
— Ты простил меня?
Он отвернулся и, глядя вниз, на воду, тихо сказал: