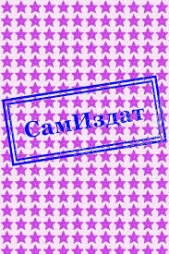Уляна
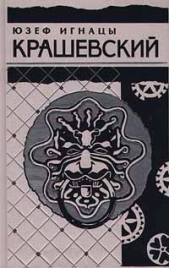
Уляна читать книгу онлайн
Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский (1812–1887) известен как крупный, талантливый исторический романист, предтеча и наставник польского реализма. В шестой том Собрания сочинений вошли повести `Последний из Секиринских`, `Уляна`, `Осторожнеес огнем` и романы `Болеславцы` и `Чудаки`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Крашевский Иосиф Игнатий
Уляна
I
Если есть сторона тихая и покойная, то уж это, конечно, наше Полесье. Коли через которую-нибудь деревню не проходит почтовая дорога или торговый тракт, так кроме обыкновенного деревенского шума, составляющего как бы ее отголосок, ничего не слышно постороннего, ничего не видно чужого. Все кафтаны одинаково серы, все платья одинаково белы, и сосны одинаково зелены, и избы одинаково низки, неуклюжи, и один и тот же черный дым поднимается над ними. Однако, как двух одинаковых листьев на стебле, так двух одинаковых деревенек не найдешь в Полесье; там церковь повыше с темными галереями вокруг; там лес гуще, там изб больше; все они схожи, словно сестры родные, а совершенно одинаковых нет, как нет одинаковых двух лиц человеческих.
Взгляните сюда, над этим озерком, что тихо и спокойно легло у подошвы холма, занятого господским двором. Это одна из красивейших деревенек Волынского Полесья, ее окружающего. Когда спустишься с пригорка, по которому вьется дорога, видишь перед собою деревню, рассыпавшуюся над берегом озера; за ней белеется господский дворик, а здесь старая трехкупольная церковь, стоя на пригорке, поглядывает на окрестности. Дорога идет до корчмы, которою начинается деревня. Кругом в отдалении сосновый лес, более или менее вырубленный, ниже или выше непременная принадлежность каждого вида в Полесье, песок, кочковатое болото, по которому сочится речонка, поросшая тростником, и над этим пасмурное небо.
По деревне тянется грязная улица, кое-где перерезанная тропой от избы до гумна, устланной кострикой или стружками и щепами. Улицу окружают поочередно избы, хлева, гумна, целые и развалившиеся, покачнувшиеся, по углам подпертые, с подогнувшимися столбами, с провалившимися крышами, или только что начинающиеся строиться; между ними остатки тына и старой изгороди из кольев да хворосту. Здесь и там, из-за забора нагнулась на улицу бледная рябина, выглядывает старая груша или качается над головой прохожего тихонько длинная бадья от колодца. Перед низкими избами, неплотно покрытыми черными от дыма драницами, едва прикрепленными к стропилам, видишь только под выдавшеюся застрехою кое-какую завалинку, состоящую частью из колоды, положенной у стены, низенькие двери со двора, понижающиеся еще высоким порогом, не допускающим близ стоящей луже влиться в сени, маленькие окошки с круглыми, похожими на бутылочное дно стеклами. Редко эти стекла заменяются другими, более тонкими и белыми. Над закоптелой высокой крышей торчит деревянный дым-ник, черный от дыма, вроде трубы или четырехгранного столба. Зимой, а часто и в другую пору года дымника этого недостаточно, чтобы выпустить дым, собравшийся под крышей избы; он лезет во все щели, окна, двери, сквозь стены и крышу так, что кажется, будто изба горит внутри и вот-вот покажется пламя. В такой атмосфере смоляных и удушливых испарений и чаду проводят всю свою жизнь жители Полесья.
Внутренность избы доказывает ту же бедность или беспечность; сени, обыкновенно грязные, по которым гуляют свиньи, завалены граблями, наготовленными к зиме лучинами, ольховыми дровами, лестницами и обломками испорченных сох и боров; из сеней единственный ход в комнату с печкой и лавками вокруг, темную, маленькую, дымную, без пола. Посередине стол, квашня, в углу избы на лавке под святым образом, порой еще детская колыбелька и ткацкий станок. Словом, это положение еще полудикого человечества, не думающего ни о чем, кроме удовлетворения своих первых животных нужд. Детские мельницы в канавах и у изб садики, в которых золотится ноготок, цветет подчас мальва и рдеет красный мак, доказывают, что и здесь маленьким детям позволено порой позабавиться. Скоро, однако, и дети, начиная пастушеством и няньчением младшего поколения, переходят к жизни труда, кидают навсегда свои игрушки, и девушка, выйдя замуж, не думает уже сажать цветов и рядиться в цветы.
О, как далеко легче, свободнее над озерком, чем в этой избе, печальной и грязной. На горе стоит дом владельца, окруженный тополями, отражающимися в воде, обставленный житницами, гумнами, скирдами и стогами сена. Среди деревьев видны там и голубятни и бадьи колодезя, а сзади на пригорке неработающая ветряная мельница.
Далее, на другом возвышенном берегу озера, церковь, черная, маленькая, старая; подле нее и колокольня. Церковь молчаливая, которая живет еще, когда пением оглашаются ее стены, ударят в колокола, и она наполнится народом. От воскресения до воскресения молчаливая, глухая, смотрит она на деревеньку, словно старуха на детей, копающихся в песке. Вдали, на желтом поле, посреди крестьянских выгонов, есть деревенское кладбище, изрытое могилами, над которыми стоят черные кресты, по два, по три, от мелких, на которые того и гляди ногой ступишь, до высоких как сосны, простые и выкрашенные, с изображением Христовых страданий и без оных. Выше всех поднялся крест Семена Бортника, покрытый зеленой крышей; сын ему поставил его, получил он после отца сто бортей, так было из чего.
Вопрос, как живут люди, которые наполняют эти избы, молятся в этой церкви, лежат на этом кладбище? Жизнь эта печальна и, однако, привычка облегчает ее; родил бы Бог хлеб, лишь бы слишком изобильный лов рыбы не напугал бы их голодом, ибо верят они в поговорку: когда рыба ловится — жито не родится. Легко объяснить это поверье: рыба ловится лучше всего, когда много воды, а низкому местоположению Полесья разливы угрожают неурожаем. Мы забыли еще об одном, важнейшем в деревне здании, которого нельзя миновать при описании. Мы видели господский дом, который для крестьянина представляет власть и верховность, видели церковь, сокровищницу небесных надежд будущей жизни; остается корчма, место ежедневного утешения. На все эти три окружающие мужичка алтаря должен он принести жертву: должен он отработать, отплатить барину за попечение, арендатору — за утешение, ксендзу — за надежды; все трое живут им, да и он без них жить не мог бы. Покажите мне деревню без господского дома, церкви, корчмы, — это будет разве какая-нибудь сирота, имеющая где-нибудь неподалеку опекунов. Если еще дело обойдется без господского дома, кое-где без церкви (потому что есть места, где за милю ходят молиться и хоронить умерших), то где же найдется деревня без корчмы? Это была бы тварь без сердца. Корчма — место сходки, совета и веселья; в ней все завязывается и развязывается; в ней и открывают один другому свое горе, в ней спорят и дерутся, и ссорятся, и мирятся и любят. Корчма — сердце деревни, как церковь ее голова, а господский двор — желудок; руки и ноги этого тела — избы мужичков. В этом длинном, покачнувшемся здании, в котором живут вместе еврей с семейством, рогатый скот, возы, гуси и куры, через стену от него и иногда даже и в одной комнате, главное место сходки и совещаний, нынешнее вече мужичков. Над ее крышей высится аристократическая, белая труба, окна похожи на мужицкие, но значительно больше; у окон ставни, у двери порою железный пробой, если не первобытные деревянные засовы.
В первой избе, кроме кровати (которая должна быть в каждой избе), есть стойка, шкаф с намалеванными на нем квартами и венком из кренделей, печь с лежанкой и широкий камин, который и летом должен топиться для жителя Полесья, ведро воды — бесплатного напитка для безденежных путников, несколько ребятишек, много грязи и смрада.
В другой может быть убитая коза, баран или теленок, полный угол картофеля, десять заповедей в углу, опять несколько кроватей с высокими постелями, лавка, столик. Здесь еще большая людность, еще более удивительные (если возможно) испарения. Такова корчма Полесья — сердце деревни.
Здесь-то увидишь старцев, притащившихся, чтобы залить в голове остаток ума и памяти; женщин, оборванных и грязных, принесших крупу, яйца, кур, часто последнее бердо со станка за кварту водки; девчонок, выпивающих десятками глотков рюмку водки, иззябших мальчуганов, прислуживающих арендаторам за каплю этого очаровательного напитка. О, сколько же тут сцен, которых половина людей не видит, — так они низки, а другая половина считает недостойными ближайшего внимания. Сколько занимательных разговоров услышат эти грязные стены, сколько споров и происшествий! И никто не видит собирающихся тут людей, и никто их не слышит, а ведь и они люди. Здесь открывается, может быть, яснее ничем не скованная природа человека, человека в наготе, как вышел он из рук Божиих.