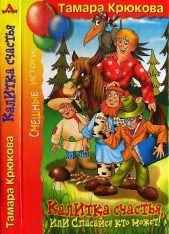Запертая калитка
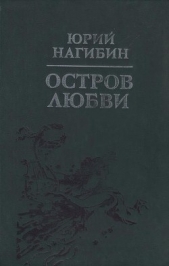
Запертая калитка читать книгу онлайн
Крупный помещик, рачительный хозяин, он во всем добивался побед — в устройстве быта, в отношениях с людьми, в денежных делах, в признании наследственных прав. Величайшая его победа — трепетные, прозрачные, бессмертные русские стихи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий Маркович Нагибин
Запертая калитка
Он много успел с утра. Он побывал в поле, где на сырых пойменных низинах бабы ворошили толстое осоковатое сено, а на взлобке за усадьбой мужики ставили первый стог; на конюшне, где вдосталь полюбовался молодым, будто из цельной черной кости выточенным жеребцом Закрасом, которого минувшей весной впервые подпустили к маткам, — большие надежды связывал заядлый лошадник с ладным породистым орловцем; заглянул на шумный птичий двор, окунулся в адову жарищу кухни, будто «снисшел еси в преисподняя земли».
А по пути с кухни перехватил конопатого рыжего (здесь многие говорили «рудого») мужичонку Афоню, доставлявшего почту со станции. Он давно подозревал, что газеты сперва попадают в людскую, где два великих грамотея — истопник Савушка и кондитер Никола — раньше своего барина знакомились с движением мировой политики и светскими новостями, чтобы в полдник с важным видом просвещать дворню. Афанасий Афанасьевич тщетно пытался углядеть следы грязных пальцев на газетных листах, учуять сладкий запах Николы и горелый, чадный — Савушки, но листы были чистыми, а крепкая — смесь мочи с керосином — вонь типографской краски отбивала более тонкие ароматы. Еще немного, и Афоня был бы схвачен на месте преступления, он уже сворачивал к людской, но Фет приметил у него в руке письмо в знакомом продолговатом конверте и не выдержал, окликнул.
Письмо, как и ожидалось, было от Льва Николаевича Толстого, и, конечно, он сразу забыл об Афоне, чем не преминул воспользоваться юркий мужичонка. В нетерпении Фет тут же разорвал конверт, и померкло его радужное настроение: опять не угодил!.. Что-то зачастили в последнее время деликатно-суровые выговоры от младшего годами Льва Николаевича. Но в каком-то смысле Толстой был старше всех, с кем сводила его жизнь (Тургенев пытался отстоять приоритет возрастного старшинства, и это едва не привело к дуэли), покладистый с друзьями, Фет охотно подчинялся нравственному превосходству графа. Но на этот раз упрек попал в самое больное место. «Хоть я люблю вас, таким, какой вы есть, — писал Толстой, — всегда сержусь за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгуете, а все больше бильярд устанавливаете».
Экая беда — бильярд!.. Стол дорогой, хороший, и надо его так ровно установить, чтобы на своей разбивке брать партию в «американку» с кия — меткому охотничьему глазу и твердой руке кавалериста Фета это вполне по силам. Но Афанасий Афанасьевич прекрасно понимал, что дело вовсе не в бильярде. Толстой осуждал его нынешнюю жизнь, хотя чем отличается она от прежней, которую Лев Николаевич неизменно и радостно одобрял? Может, тогда Толстой лучше понимал естественную и гармоничную двойственность Фетовой натуры? Он похвалил Афанасия Афанасьевича, что тот на листке письма с новым стихотворением «излил чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта». Толстой постиг движение стыдливого духа, пытающегося спрятать от чужих глаз свое сокровенное. Тогда Фету казалось, что Толстой проглядывает его сущность до самого дна. Но Толстой — прежде всего великий сочинитель, он сочиняет и пересочиняет Фета по своему произволу, в зависимости от той внутренней работы и тех борений, что совершаются в нем самом. Понять же другого человека по-настоящему может лишь тот, в ком отличающим Толстого ясный ум души (только души, а не самонадеянный и узкий головной ум) свободен от самовластья творческой воли.
Зачем я обманываю себя, оборвал свои мысли Фет. Зачем делаю вид, будто вина на Толстом, а вовсе не на мне? Что общего между моими прошлыми тяжелыми и необходимыми заботами и нынешней пустейшей суетой? Чего лезу я к мужикам с указаниями и советами, да как подстожье класть, да как треснувшее копыто лечить, когда сам же нанял управляющего, умного, знающего, высокопорядочного Оста? Мне нечего делать ни в поле, ни в конюшнях, ни на птичьем дворе, я только обижаю и раздражаю своим неуместным вмешательством щепетильного Оста. Кухня — это еще по моей части, все остальное — от многолетней привычки к безостановочному крутежу. Я никогда еще не был так свободен и никогда еще не был так занят, как сейчас. Я сам придумываю себе заботы. И тщетно стал бы ждать Толстой, чтобы ныне житейская жалоба излилась на листке с новым стихотворением, — поэзия забыта. Понадобилось убийство царя-освободителя, чтобы я проговорился крошечным и слабым стихотвореньицем. Толстой все это видит и презирает…
— Просим вашу милость работку принять, — послышался за его спиной вкрадчивый голос.
— Какую еще, к нечистому, работку? — Не узнав Куприянова, бильярдного мастера, выписанного из Курска, Фет грузно повернулся.
— Бильярдный стол уста…
Все остальное застряло в глотке мастера — Фет недаром начинал службу в кавалерии с младшего чина, чуткое ухо поэта сберегло перлы крепкого унтер-офицерского красноречия.
У Киприянова разом вспотело широкое бледное лицо. Он был человек балованный, весьма не бедный и амбициозный. Фет вспомнил об этом посреди «большого кирасирского захода», которому научился у незабвенного вахмистра Лисицкого, и властно, словно норовистого коня, обуздал себя: Толстой Толстым, а бильярд бильярдом, и работу принять надо со всем тщанием, не выбрасывать же деньги на ветер.
— Моя вспышка, дорогой Иван Свиридович, — сказал он без всякого перехода, — служит выражением собственного душевного беспорядка и твоей почтенной особы никак не касается.
— Понимаю, сударь, — Киприянов наклонил голую, как бильярдный шар, и такую же твердую костяную голову с бахромой сивых волос на затылке, — и, поверьте, умею ценить богатство и гибкость татаро-русского велеречия!
— Ого! — удивился Фет. — Ты еще и словесник?..
По пути в бильярдную Афанасий Афанасьевич вновь растравил в себе обиду на Толстого. Пусть он в чем-то и прав, но кто-кто, а уж Толстой мог бы проглянуть дальше грубых очевидностей внешнего поведения, а главное, понять, изнутри понять, почему мечтательный студент-поэт превратился в торопыгу-помещика, не знающего покоя.
Ему выпала странная судьба и странная жизненная задача: вернуть то, что принадлежало ему от рождения и было отнято игрой таинственных обстоятельств, — имя и лицо. В четырнадцать лет ленивый и беспечный барчук, воспитанник пансиона в Верро, столбовой дворянин Афанасий Афанасьевич Шеншин, в чьем роду были воеводы и стольники, вдруг превратился в иностранца и разночинца Фета. Каждому человеку больно и дико лишаться своего имени, но каково это подростку с тонкой кожей? К тому же он лишился не просто имени, а куда большего!
Мальчиком ему доставляло неизъяснимое наслаждение рассматривать родословную Шеншиных; от «герольда» пахло дикой полынью, степной пылью из-под копыт вражеской конницы, рвущейся к южной окраине русской державы, прикрытой щитом воеводы Шеншина; пахло вином и брашном изобильного царского застолья, зорко наблюдаемого расторопным стольником Шеншиным. И маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприютном мире сладко быть лишь русским дворянином и барином.
И вот он не русский, не дворянин, не барин, не старший сын и наследник родовой вотчины отставного ротмистра Шеншина, увезшего из Дармштадта от живого мужа и малолетней дочери голубоглазую Шарлотту Фет, чтобы сделать в России своей законной женой. Вскоре по приезде Шарлотта родила. Слишком поторопился на свет божий младенец, нареченный Афанасием, и подделка, совершенная приходским священником в угоду влиятельному прихожанину, через четырнадцать лет была раскрыта консисторией.
Но, как ни страшен был удар, Фет куда позже осознал и ощутил его сокрушающую силу, молодость живет иллюзиями. В студенческие годы, обнадеженный успехом своего поэтического дебюта, он наивно верил в спасение через литературу. Красавцу императору Николаю I не везло с поэтами, и он освобождался от них с помощью петли, каторги, солдатчины или пистолетов метких стрелков. У русской поэзии был тяжелый счет с царем, что набрасывало тень на столь блистательное царствование. Почему бы певцу природы, тонких, смутных ощущений, нежного трепета сноси доброй и безвредной музой не привлечь благосклонного внимания государя и не примирить с отечественной поэзией? А там!.. Глупые, ребячливые мечты!.. В середине сороковых годов в просвещенном русском обществе угас интерес к поэзии, чего же было ждать от гиганта с серо-голубыми глазами? Мужественно пережив разочарование, Фет избрал кратчайший, казалось бы, путь в дворяне — военную службу, ведь первый же офицерский чин давал потомственное дворянство.