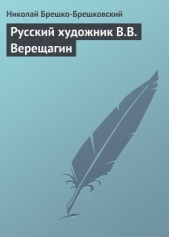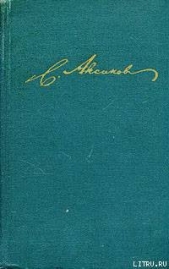Повести. Очерки. Воспоминания

Повести. Очерки. Воспоминания читать книгу онлайн
Замечательный русский художник Василий Верещагин (1842–1904) был известен и как оригинальный, даровитый писатель. В книгу вошли избранные литературные произведения Верещагина: повесть «Литератор», очерки, воспоминания, путевые заметки, размышления об искусстве.
Книга снабжена репродукциями верещагинских картин, в ряде случаев с авторскими комментариями, где художник выступает талантливым, эрудированным и объективным исследователем. Многое из литературного наследия Верещагина, подобно его бессмертному художественному наследию, обретает неожиданную свежесть и актуальность для современного читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я спрашивал у настоятеля, не сохранилось ли в монастыре, как известно, служившем громадным госпиталем, каких-либо преданий о времени пребывания в нем французов в 12-м году. Писаного ничего не сохранилось, по его словам, устно же довелось слышать кое-что лично ему: за бытность его в Валаамском монастыре он знал старого иеромонаха из Колочского монастыря, хорошо помнившего приезд Наполеона с разведочною партиею. «Мы только что сели обедать, как они набежали. Он вошел, как был, в шапке, пожелал нам по-польски доброго аппетита, и — как раз против меня было пустое место, — перешагнув через скамейку, взял ложку и стал есть наши щи. Съел немного, сказал: „Добрые щи!“ — и ушел. Как только они уехали, наскакали из-под Бородина наши казаки и давай ругать нас: „У вас был сам Наполеон, зачем вы его не задержали!“ А мы говорим: „Как его задержать-то, ведь он не один? Что же вы-то смотрели, задержали бы вы!“ Насилу от них отделались».
Вся местность Бородинского поля сохранилась почти в том самом виде, как она была во время величайшего в истории сражения, в котором пало свыше 100 000 человек. На холме батареи Раевского, lа grande redoute, как ее называли французы, стоит теперь высокий памятник из чугуна, с вызолоченными надписями и цифрами. Согласно им, под Бородиным было у французов 145 000 человек пехоты и 40 000 конницы при 1000 орудий [168]. Из них убито 9 генералов и до 20 000 офицеров и нижних чинов; ранено 30 генералов [169] и до 40 000 офицеров и нижних чинов. Русских было около 120 000; убито 3 генерала, ранено 12. Офицеров и нижних чинов убито до 15 000, ранено до 30 000. Орудий было 640. Трудно сказать, насколько верен этот счет. Известно, что Наполеон, не церемонившийся с цифрами, определил свою потерю убитыми и ранеными в 10 000, а русскую объявил в 50 000. Судя по тому, что французы были нападающею стороною и шли на более или менее хорошо защищенные укрепления, надобно думать, что их потеря была больше нашей.
Генерал Дюма в своих записках говорит: «Nos pertes furent immenses!» [170] Как видавший виды, он вряд ли сказал бы это о потере в 10, даже в 20 000 человек. В свидетельствах других современников-очевидцев полное противоречие: в то время, как французы говорят, что на одного ихнего приходилось двое русских, наши свидетели удостоверяют, что мертвых неприятелей валялось по редутам просто невероятное количество [171]. По словам француза-очевидца, внутренность большого редута (батареи Раевского) представляла страшную картину. Трупы лежали один на другом… «Между прочим, — говорит он, — мне бросился в глаза труп артиллериста, у которого было три креста в петлице; молодец, кажется, дышал еще, в одной руке он держал палаш, другою обнимал орудие, которому так честно послужил… Все русские солдаты там погибли, не сдались… Версты на четыре в квадрате все было завалено мертвыми и ранеными; виднелись целые горы трупов, и немногие места, где их не было, были завалены всяким оружием, ядрами и пулями, покрывавшими землю, как град после грозы. Самое ужасное были рвы… Несчастные раненые, наваленные один на другого, буквально плавали в крови и со стоном умоляли прикончить их».
Даже Наполеон расчувствовался перед ужасом картины поля битвы: когда кто-то из свиты близ него наступил на раненого, застонавшего от боли, он выбранил неосторожного и на оправдание того, что это не француз, а русский, сердито заметил, что «после битвы нет врагов, есть только люди».
Известно, какое смешное недоразумение вышло между нашим генералом Лихачевым [172], взятым на батарее Раевского в плен, и Наполеоном, пожелавшим явить великодушие этому единственному видному пленнику. «Уважая вашу храбрость, возвращаю вам оружие», — говорит Наполеон и приказывает подать себе шпагу генерала; ему подают, но чужую, и когда император протягивает ее Лихачеву, тот начисто отказывается принять. Потерявши терпение и не разобравши дела, Наполеон громко говорит: «Уведите этого болвана!» Надобно заметить, что бравый Лихачев был взят в плен совершенно израненный и что вообще неприятель был поражен малым числом пленных офицеров и солдат, всего от 700 до 800 человек. Еще раньше, после взятия Шевардинского редута, когда Наполеон подивился тому, что нет пленных, ему отвечали: «Не сдаются, ваше величество, умирают».
С северной стороны бородинского памятника выросла березовая роща, несколько изменившая характер местности, но все-таки и теперь высота холма внушительно свидетельствует о силе стоявшего тут укрепления, о которое долго разбивались все усилия французов.
На месте Семеновских флешей теперь высится женский монастырь, построенный вдовою генерала Тучкова над тем местом, где пал бравый воин [173]. На каком именно пункте генерал был ранен первый раз, не знают; заметили только, куда ударил неприятельский снаряд, когда его несли раненого: моментально не осталось ничего ни от Тучкова, ни от носильщиков, ни от самих носилок. Над этим местом и была построена церковь.
В этой церкви с характерным, александровского времени, позолоченным иконостасом замечателен образ Спасителя, хорошего письма, с очень выразительным ликом; он принадлежал одному из полков Тучкова, всюду сопровождал убитого, и когда после войны командир потребовал было его обратно, вдова, тогда уже игуменья Мария, отстояла его из-за дорогих воспоминаний, и полк удовольствовался копиею.
Юго-западная часть Семеновских флешей замечательно хорошо сохранилась, несмотря на то, что предшественница нынешней игуменьи устроила в ней кирпичный заводик. Северо-западный угол, входящий в самую черту монастырских построек, еще несколько лет тому назад возвышал свои бастионы, пощаженные годами, но в настоящее время верх бастионов срыт и на них разведен огород… Впрочем, мать-игуменья обещала не дозволять в будущем монастырским огородам и парникам подрывать уцелевшие части валов и рвов, как реликвии «злой обороны» 1812 года.
Мне кажется неверным теперешнее резкое деление труда на художественный и ремесленный, — тот и другой должны были бы определяться не столько «по видимости», сколько по степени творческого таланта, на них затрачиваемого. Во всяком занятии, во всяком ремесле, если в нем есть творчество, есть и художество, искусство; напротив, искусство, в котором труд ведется шаблонно, рутинно, представляет из себя ремесло, — это лестница, верхние ступени которой состоят из искусства, а нижние из ремесла; где кончается одно и начинается другое — сказать трудно, хотя обыденный язык, по-видимому, и легко разрешает вопрос, называя одно ремеслом, другое искусством. То и другое не составляют в сущности отдельных цехов, а обнимают всю человеческую деятельность, все занятия, профессии и должности. Везде ремесла, т. е. рутинного отношения к труду, больше, чем творчества, художественной работы: живописец, поставляющий образа или портреты «числом поболее, ценою подешевле» [174]; военный, сильный одною фронтовою службою; чиновник, все свободное время играющий в винт и лишь спускающий с рук «входящие» и «исходящие», или доктор, умелый только в обиходной рецептуре, — все это ремесленники, более или менее высоко поставленные, более или менее успешно зарабатывающие свой хлеб, но не вносящие в свои специальности ничего творческого, не добивающиеся «чего-то»…
Я настаиваю на том, что несправедливо называть ремеслом только так называемый «поденный труд» и несправедливо находить искусство лишь у живописцев, скульпторов, литераторов, музыкантов, актеров, до ретушеров-фотографов включительно; несправедливо думать, будто только представители этих профессий — артисты, благо они сами в этом уверены, тогда как сплошь и рядом между ними менее артистов, чем, например, между кустарями, собственным умом и корявыми пальцами создающими «хитрые штучки».