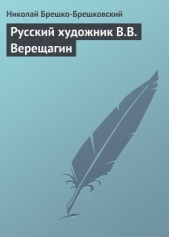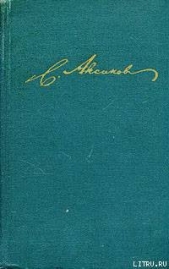Повести. Очерки. Воспоминания

Повести. Очерки. Воспоминания читать книгу онлайн
Замечательный русский художник Василий Верещагин (1842–1904) был известен и как оригинальный, даровитый писатель. В книгу вошли избранные литературные произведения Верещагина: повесть «Литератор», очерки, воспоминания, путевые заметки, размышления об искусстве.
Книга снабжена репродукциями верещагинских картин, в ряде случаев с авторскими комментариями, где художник выступает талантливым, эрудированным и объективным исследователем. Многое из литературного наследия Верещагина, подобно его бессмертному художественному наследию, обретает неожиданную свежесть и актуальность для современного читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одиново я сам дорылся: посмотрю эдак, куда нора идет, колышком пощупаю — да наперерез; перва вдаль да вглубь все нора шла, а тут опять кверху пошла; тут смотрю трое и сидят, мать да два детеныша; багорком вытащил да и заколотил. С аршин длины будет зверинка-то эта, а вышины и пол-аршина нет, лапки коротенькие, а сам жирный; как лето-то погуляет, а осенью поймаешь, так фунтов пяток сала из него вытопишь; а сало хорошее. Этой зверины сало у меня и теперь есть, да раздавал много: кто там руку али ногу посечет, так хорошо прикладывать; или вот у лошади усечка — тоже этим лечат. А то мне в кляпец раз сова попала, большущая! Когти, так зайца с кляпцом унесет, да сальная, братец, какая! По кулаку сала-то местами; два фунта вытопил из ней, и хорошее сало, как у язвицы же — не мерзнет.
Куниц да норок много я переловил, все кляпцами же; а кто не знает, тот и не изловит — тоже все под след да хранительно… Перво надобно ее прикормить, этих без прикормки не изловишь: зайца ли убьешь да в лом, где ни есть и положишь, норка-то и имет ходить, тут на дорогу кляпец и ставишь. Куничка эдак же: убьешь зайца да повесишь на нижний сучок, привяжешь; она, как где есть в лесу, уж найдет, ходить имет, тут под след-то и поставишь, да снег опять заровняешь, да следочки опять, как у ней были, и поделаешь, чтобы не узнала. Зимой все эдак ловишь, а летом мудрено — разве с собакой: да собаке другой не настичь — отстанет: она вон из рощи в рощу верст за 5 убежит — ищи! Эта зверина проворная! Живет все больше в белочьих гаинах: на елях из моху у векши-то [51] эдакие гнезда настроены — и чего она туда не натаскает, а куничка-то белку заест, да сама там и имет жить. Я их в этих гаинах часто бивал. Только где раз пройдешь с ружьем, так не станет жить; она пороховой дух чует, она проворна! Нынче меньше что-то стало куниц; а ведь шкурка ее, ты как думаешь, хорошая 4 и 5 целковых стоит; ну, норка — та дешевле, та за полтора идет…»
Кроме волков и лисиц, из которых первые мало преследуются, а последние трудно поддаются и потому мало ловятся, все остальные мелкие пушистые звери, как язвицы, куницы, норки, белки и другие понемногу переводятся; по крайней мере, в здешних лесах количество их значительно уменьшилось. Разве одних белок и теперь еще бьют много; я знаю охотника, который в три недели наколотил их более трехсот штук.
…«Лисиц ноне надо бы добывать; прошлым годом все больше птицу бил: рябков да тетеревей под осень-то. Эту охоту знаешь ли? Как мы их, дураков-то, обманываем? Чучела есть эдакие: тетеревей убить да оснимать, да отрепья туда набить — на такие больше летят, а то и просто деревинку синим платком обвить да только забрать белым, где у его есть в перьях, краской или мелом и набровнички красные делают. Шалашик построишь да чучелов-то сверху и выставишь; в шалаше и сиди тихохонько на карауле. Как солнышко взойдет, тетерева имут с места на место перелетать; вылетит на сосну или на березу да чучело увидит, к ним и летит, ты из шалашика-то и стреляй — тут просто. Вот лисиц ловить хитро. Надо быть, она родит к Петровкам [52]: в эту пору хорошо их маленькими брать; только приходи, когда они еще не решатся, а все вместе у матери живут. Где лисий выводок есть, там у них утерто да утоптано, да всячины натаскано, перьев и шерсти: она зайцев да птах детям-то таскает. Днем-то они бегают, так тут их не застичь, а надо маленько к вечеру приноровить, тут они все собираются, тут и таскай детенков-то клещами. У меня трое были, зиму целую кормил: от Петровок самых да до зимнего Егорья [53]. Их просто кормить: хлебца побрасывай, да где ворону убьешь — бросишь; да разгородить надо тесинками, а то загрызут одна другую: и сверху тесинками прикроешь, только щелки оставь для воздуху. Больших лис мало я лавливал — эта хитра! Дойдет, наднесет лапку над кляпцом, услышит дух и отойдет. Кто ежели знает колдовство, тот может и по пятку изловить и по десятку; те приговор знают, тому добрый человек [54] заганивает. Другой охотник с лесовым, как мы с тобой али брат с братом сойдется — ен этим и ловит. У нас в В*** ворожей вон в две недели восемь штук изловил; четыре лисицы да четыре волка — вот и знай! Мы у него и спрашиваем, как ен ловит, да сказать-то ему нельзя: ему ловли не будет самому; ему не велит сказывать нечистый. Что, не веришь? А как же у меня, примером, бывает наставлено, сколько места огородишь кляпцами, а лиса-то, ровно человек, обойдет да выйдет; это ен-то и отганивает за то, что мы ему не служим: ему не кошные (наемные) заганивать-то — дьяволят много. Да чего! Мало ли у нас этих ворожей! Лисицу ничем больше не словишь: она и не рада бы идти, да гонят и духу тут не чует; а у нас вон, хоть сколько глубоко зарой кляпец, — что волк, что лисица железный дух чуют… Этому, братец мой, верь; это кого хошь спроси, так всякий тебе скажет — кто и не охотник. Нам иные ворожеи срушны, так истину правду сказывали: ен им, вишь ты, не в своем виде кажется-то, а словно как и человек; коли ты в своем-то виде его увидишь, так тебе, живым не бывать — смотри-ка, ен выше лесу ходит! Ворожей сказывал: идешь где лесом да на след его только наступишь, так сейчас какое ни есть место и заболит у тебя. А что думаешь? Я валежник в лесу таскал да на след, должно, и наступил. Мне как бок схватит! Да ломило, да ломило, так насилу до дому дошел, да уж солью оттерла ворожиха. Али зубы ни с чего заболят: опять, ни к кому другому, к ворожихе ступай. Стало быть, ты не знаешь, как вот ворожихи-то людей портят! По ветру-то пущают: настрижет с собаки шерсти да на шерсть наговорит, да по ветру-то пустит — на человека и налетит. В которой день „Отче“ или „Верую“ [55] прочитаешь — андел не допущает, а кое не умеет читать молитву али и забыл только, тот погибает: у его в утробе нечистый расти имет. На свадьбах-то у нас мало ли народу изводят… Вот П…у старуху знаешь? Ей и не попадай встричу, как на охоту пойдешь. Зайца просила раз, а зайца в ту пору у меня не было. Так что! И напустила она на меня — с той поры не могу ни одного зайца поймать. Боимся мы этих ворожей! Ох, боимся! И охоты-то лишат, и сам-от бойся.
Чего и не натерпишься по лесам; да другому что хошь, хоть 10 руб. дай, чтоб в лесу заночевал, так не возьмет; а мы-то, как ходишь да ходишь за оленями-то, верст 20 или 30 идешь, так неволей в лесу ночуешь. В другой раз и не заснешь, в скуке тут спанье: дума-то на горах ходит — чего и не причудится! Только молитву творишь, так бог милует. Ведь власть-то над тобой какая! Их двенадцать братьев и двенадцать сестер, нечистых-то! Да такая сила, что ен и в церковь идет, да только до Херувимской песни [56] стоять может — тут уж выходить должен… Али не знаете этого? Вот поживете да состаритесь, так узнаете и не это еще…»
Из путешествий по Закавказскому краю
Я подъехал к Шуше, административному центру Карабахской провинции в Закавказье, поздно вечером: сквозь темноту можно было видеть только темный силуэт городской стены, построенной на верху высокой, крутой горы. Шуша — областной город Шушинского уезда — прежде был резиденциею карабахских ханов. Это место довольно хорошо укрепленное, потому что с двух сторон защищено отвесною скалою, а с остальных — стеною с башнями весьма прочной постройки. Подъем к городу очень труден, дурная, грубо вымощенная большими каменьями дорога так крута, что 5 лошадей с трудом тащили мою повозку. Еще не доезжая горы, я видел, что над городом появился сильный свет, и слышал гул от какого-то крика; по мере того, как я приближался, свет все более и более увеличивался и, наконец, обратился как бы в зарево большого пожара, а гул перешел в беспорядочный рев многих тысяч голосов. Я въехал в город узкими крепостными воротами, и здесь картина, подобной которой я никогда ничего не видел — картина оригинальная, дикая, представилась мне: вся площадь, буквально, была запружена народом, шумящим, беснующимся и просто глазеющим. Партиями, человек в сто, вытянувшимися в линию, татары прыгали по площади и прыгали бешено, с дикими возгласами; каждый левою рукою держался за кушак своего соседа, а в правой держал высоко над головою толстую палку, которою с каждым прыжком потрясал. Таких партий было три, и впереди каждой мальчишки, наряженные в какую-то странную смесь разного тряпья и вывороченных кверху шкур, скачут, кривляются и бьют в турецкие барабаны и медные тарелки под общий такт криков и пляски. Муллы-распорядители поощряют словами и жестами прыгающих, расталкивают народ, бранятся; наконец, какой-то важный бек (бек — дворянин) [58], по-видимому, главный распорядитель, скачет в толпе взад и вперед, размахивает шашкою и ругается на чем свет стоит. К этому гаму примешивается еще говор и шум глазеющей толпы, ржанье лошадей и проч. Сцена освещена огромными нефтяными факелами: в железные решетчатые коробки набросано тряпье, постоянно обливаемое нефтью; сотни этих факелов, горящих сильным пламенем, носятся, вслед за прыгающими, на высоких шестах. В массе скачущих на площади отделяются группы персиян: они не держатся друг за друга, а на левой руке носят, как бы собравшись в дорогу, плащи; они тоже неистово скачут во все стороны.