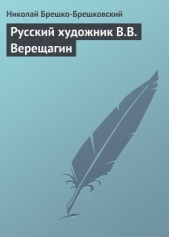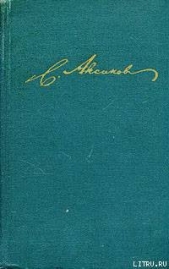Повести. Очерки. Воспоминания

Повести. Очерки. Воспоминания читать книгу онлайн
Замечательный русский художник Василий Верещагин (1842–1904) был известен и как оригинальный, даровитый писатель. В книгу вошли избранные литературные произведения Верещагина: повесть «Литератор», очерки, воспоминания, путевые заметки, размышления об искусстве.
Книга снабжена репродукциями верещагинских картин, в ряде случаев с авторскими комментариями, где художник выступает талантливым, эрудированным и объективным исследователем. Многое из литературного наследия Верещагина, подобно его бессмертному художественному наследию, обретает неожиданную свежесть и актуальность для современного читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Типы того люда, с которыми художникам, отчасти и литераторам, приходится иметь дело, очень разнообразны, — от мелких любителей, желающих иметь «хорошенькую вещь не дороже ста рублей» — наиболее симпатичных, — до Кит-Китычей, не жалеющих тысяч, но требующих «учтивства» и покорности [243].
Вспоминаю милейшего Д., затаскивавшего меня обедать вместе с покойным Д. В. Григоровичем. Несмотря на упрашивания Г., я так и не пошел, только спросил после, хорош ли был обед. «Сумасшедше хорош, — ответил Д. В., — одни чашечки перигорских трюфелей, поставленные перед каждым, чего стоили, а ведь мы только ущипнули от них».
Об этом милом самодуре, нашумевшем по всей Европе, тот же неподражаемый рассказчик Д. В. Григорович приводил немало курьезов.
Один из них. Проигравши раз в один вечер около миллиона рублей, Д. встретил пришедшего навестить его Григоровича чуть не со слезами: «Я — изверг, я — злодей, я разорил семью», — вопиял он, забывая, конечно, что кое-какие заводы, вместе с еще кое-какою хурдой-мурдой стоили все-таки миллионов 20, если не 25. «На воздух, на воздух, мне душно!»
И приятели отправились проветриться на острова, причем из экономии уселись на империал омнибуса, а в первом же большом ресторане, в который они приткнулись, Д. подарил понравившейся ему арфистке 1000 рублей.
В нашей стране, чтобы художник, литератор или человек науки был вполне оценен, ему нужно умереть, — исключение составляют немногие, успевшие получить большую известность за границей; но, несмотря на всю заманчивость этой перспективы, люди, конечно, не торопятся пользоваться этой верной рекламой.
Только, говорю, когда большой талант преждевременно умрет, то сплетни и злословие оканчиваются и начинается самобичевание: «Как могло это случиться? Как можно было это допустить? Где же мы были?» Больно, тяжело читать теперь письма Пушкина, Достоевского и других, только и думавших, что о выходе из стесненных денежных обстоятельств, бившихся из-за насущного хлеба.
Пушкин еще сравнительно нуждался по-барски, а Достоевский до того бедствовал, что запирался от домашних, чтобы выжать из себя юмора рублей на 300, на 400, ровно настолько, чтобы не умереть с голода. Но едва он по-настоящему умер, как сочинения его стали давать по 50, 60, 80 тысяч рублей за издание. Не ирония ли это судьбы: безысходная нужда, дополняемая припадками нажитой в незаслуженной каторге падучей болезни, при жизни самого творца художественных созданий, — довольство, чуть не богатство для наследников, явившихся как нечто должное, вполне натуральное!
Интересно недавно открытое письмо Пушкина [244], в котором он откровенно отказывается от авторства известной нескромной пьесы, подозрение в котором так много навредило ему у дрянных людей, под защиту которых пришлось отдаться.
Светочи гигантов общественной деятельности бросают такие большие тени, что в них надолго устраиваются и подолгу отдыхают спутники и встречные, друзья и враги.
Изящный, отделанный стих — Пушкина! Смелая мысль, красивая фантазия — Пушкина! Непременно Пушкина, кого же, кроме него?
Как Александр Македонский на Востоке — везде он. Громкая легенда, чудесная постройка — все приписывается времени знаменитого «Искендера».
Такова царица Тамара на Кавказе: что ни руина, — то ее постройки, что ни сказка, — то о ней, об ее подвигах.
Таков и Петр Великий на нашем Севере, где множество свидетельств народного культа к его памяти: здесь дом, в котором он останавливался или который построил себе; там предмет, которым он заинтересовался, холм, на котором стоял, или камень, на котором обедал (?). Уж не знаю, правда ли, что царь обедал на камне, торчащем из воды Северной Двины, — предание, однако, настойчиво говорит так, несмотря на то, что плоский камень этот порядочно наклонен, — он мог, впрочем, наклониться уже «после обеда».
Давно я слышал от простолюдина о том, что в Архангельске, в домике Петра I, сохраняется между прочими интересными вещами, напоминающими о великом царе, лапоть, который он будто бы начал плести, но не доплел; всему, видишь, выучился, до всего дошел, а тут не хватило терпения, бросил работу, как слишком мудреную. Нужно было видеть лицо моего рассказчика-крестьянина, чтобы понять, как бережно нужно относиться к таким вещам, как этот недоплетенный лапоть, если только действительно он существовал не в одном воображении носителей и производителей лаптей.
О каких-либо вещах в домике Петра в Архангельске нет и помина теперь, и самый-то домик перенесен с того места, на котором царь построил его и жил в нем, на бульвар! Мало того, — так как домик загрязнился от времени, то вместо всякой реставрации его выбелили известкой, и выбелили основательно, снутри и снаружи, точно окунули в известку! Как, по чьему совету или капризу проделано над известною реликвиею такое варварство?
Мне сказали, что перенос домика (!) и его «обеление» произошло несколько лет тому назад в просвещенное губернаторство князя Г.
Заговорив о сохранении у нас памятников старины, приведу несколько примеров самого варварского обращения с ними, представляющих прямо вырывание страниц из истории, — ни больше ни меньше. Если не примут серьезных мер, скоро не только исчезнет вся деревянная Русь, но и каменные здания, не угодившие гостинодворскому вкусу малообразованных заправил, будут перекромсаны и разделаны, вроде той чудесной церкви древнего монастыря в Ростове Ярославском, в котором настоятель счистил фрески и покрыл его розовым стюком под мрамор, — суди его бог!
Мне очень хотелось побывать в знаменитом храме на мысе Пицунда, близ Сухума. Насколько это большая и почтенная древность, можно судить по тому, что в ней отбывал ссылку св. Иоанн Златоуст и что стены с остатками фресок внутри, как уверяют, уцелели от этого времени (?). Неудивительно, что снаружи на стенах росли деревья!
Фрески эти или, вернее, остатки их, главным образом, и привлекали меня. Чтобы добраться до них, я поехал в Ново-Афонский монастырь, к ведомству которого Пицундский храм был в последнее время причислен. Любезные монахи обещали приготовить лошадей и в разговоре не утерпели, чтобы не похвастать улучшениями, произведенными их отцами в старой святыне, лишь только они приняли ее в свое заведование. «Улучшения? Какие?» — «А с божьей помощью все привели в благоразумный вид, почистили, побелили». — «Где побелили?» — «Внутри, выбелили купол и стены». — «А с фресками что сделали?» — «Фрески, какие фрески? Никаких там не было. Это — что осталось кое-где грязное, пятнами? Так это почистили, прикрыли».
После этого объяснения я раздумал ехать в Пицунду.
В костромском Ипатьевском монастыре есть хоромы бояр Романовых, в какое именно время, кем выстроенные, неизвестно, но по всей вероятности, дававшие гостеприимство и Михаилу Федоровичу, и Алексею Михайловичу, приезжавшим в монастырь на богомолье. Предание говорит, что в этом именно доме спасались юноша — будущий царь — с матерью в Смутное время, когда они принуждены были укрываться за монастырскими стенами от бродивших по окрестностям шаек казаков и поляков.
Теперь палаты эти неузнаваемы, и мне объяснили, что в царствование императора Николая Павловича хоромы были подвергнуты архитектурной пытке какого-то инженерного полковника, которому было дано 10 000 рублей с приказанием «реставрировать». Все более или менее подверглось этой доморощенной реставрации, но особенно пострадало внутреннее убранство комнат, — теперь это — ряд покоев, совершенно пустых и бесхарактерных: одна клетушка выкрашена розовою краской, другая синей, третья зеленой и т. д., всеми цветами радуги.
Еще не могу помириться с исчезновением Коломенского дворца под Москвой. Долго стояла эта чудная постройка, никому не мешая, всех пленяя, и, с постоянными поправками и заменою сгнивших частей новыми, той же формы, рисунка и цвета, простояла бы и до сих пор. Нет, нужно было дать приказ «разобрать»! Легко сказать: разобрать! Вот уж можно сказать, не ведали, что творили! Сознание того, что такую прелесть, такое чудо, — как дворец этот называли, — совсем уничтожить стыдно, очевидно, было, потому что приказано было перед ломкой сделать точную модель со всех построек, — ту самую, что сохраняется теперь в Оружейной палате, — а также насадить по линиям фундамента дворца акации, составляющие теперь живые стены по всему пространству, прежде занятому зданиями.