Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
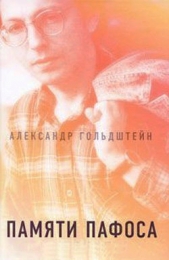
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ВОЗРОЖДАЮЩИЙ ИМПУЛЬС АРХАИКИ
Беседа с Владимиром Янкилевским
На перекрестке 50-х и 60-х, после десятилетий морозных ампиров, группа художников, склеенных беззаконием молодости и отзывчивостью подтаявшей московской погоды, совершила чрезвычайное дело, восстановив достоинство изобразительного русского творчества, визуальной его философии.
Они были неофициальными, левыми, катакомбными — последнее, конечно, обманчиво, ибо и поверхность плывущего времени, отпузырившись, смирилась с их жизнерадостным на ней обитанием. Много позже, в период подготовки выставки «Авангард Революция Авангард», М. Гробманом и М. Шепсом впервые было предложено обязывающее самоназвание: Второй русский авангард, диалектика престолонаследия и вынужденного разрыва с убитыми предками (между первым и вторым всегда пауза и зияние, между ними накопление голода, что отражено и в застольном обычае). Дальнейшие перипетии преемников определились настолько различно и полно, что вместе они составляют суммарный, без прорех и изъятий, биографический текст, аллегорию участи артиста и человека. Не поступившись ни единой двойчаткой противоречий, это зеркало судеб отразило раннюю смерть и приятное долгожительство, неприкаянность и ласку международной опеки, одинокое, с глаз долой, увядание и поучительно незарытый талант к растворению в метаболизме гостиных, скромную — сдавленную перегородками цеха — известность и распахнутую всесветную славу. На бесстрастных весах они все, живые и мертвые, давно уже классики, завернутые в общую ткань исторической принадлежности, плащаницу доблести поколения, которому не о чем препираться в (не)закатных лучах своих личных и коллективных деяний. Но такие весы — отвлеченнейший инструмент безразличной к метрическим показаниям вечности. Реальные чаши колеблются под неравновеликими гирьками боев за признание, настороженных или отринутых дружеств, ревнивых слежений за чужой траекторией и попыток оспорить сминающий фатум, заново истолковав его произвол.
Это биологически предуказанный удел художественной генерации, привычно стартующей союзом втиснутых в тощий паек честолюбий, но корень отщепенского группового призыва неизбежно расслаивается на отдельные волокна и нити, и далее каждый бредет в одиночку, стремясь уяснить, что именно в памятном прошлом обусловило счастливую или горемычную странность пуги.
В независимом московском искусстве 60–70-х годов Владимиру Янкилевскому принадлежала одна из непререкаемо ведущих ролей. Сделанное им поражает размахом и тщательно выверенным исступлением, когда изящество формальных решений лишь углубляет оргиастический (в старом, обрядовом значении слова) пафос задания. Профессиональный анализ его работ автору этих строк, не обладающему ни академической выучкой, ни специально настроенным зрением, к сожалению, недоступен, и он вынужден ограничиться дилетантскою констатацией, что от картин и объектов исходят стойкие излучения справедливости, мощи и прихотливого совершенства; эманации подобного рода, впрочем, наделены самостоятельной силой внушения, обходящейся без комментаторских линз и лекал. Человек определенного места, среды, поколения, художник сберег триединый опыт этих истоков и развил его в Нью-Йорке, а затем и в Париже, городе нынешнего своего пребывания, — споря с теми, в чьем обществе начинал, сохраняя привязанность к ним. Генерация поредела, рассогласовалась, распалась, но ее абрис остался, и исчезновение ему не грозит.
Знакомство мое с Владимиром Янкилевским ограничилось временем тель-авивского интервью и несколькими часами менее строгого разговора, однако и этого срока хватило, чтобы ощутить в собеседнике то безуклонное сосредоточенье на главном, что спокон веков почиталось стержнем призвания, его безвыходным кодексом, одержимой традицией и непогрешимым каноном.
— Созданные вами образы, на мой взгляд, претендуют быть не только реальностью вашего воображения, но и настаивают на объективности своего бытия. Откуда они являются к художнику Янкилевскому? Он их придумывает или они существуют в не зависящих от его фантазии участках реальности? Говорят же сторонники логико-математического платонизма, что математики не изобретают свои конструкции, но их открывают, подобно тому, как естественники открывают законы природы.
— Буквально ответить на такой вопрос невозможно, поскольку нет черты, разграничивающей две формы проявления этих образов, но для меня всегда была важна не внешняя окончательность процесса, а то, что происходит между элементами картины, в системе ее промежуточных связей. В пределе я могу взять любые заданные мне конечные формы, дабы затем создать именно те отношения между ними, которые выразили бы мое внутреннее жизневосприятие. Образы, складывающиеся в моих вещах, по своему происхождению дуалистические: с одной стороны, мне почти все равно, откуда они пришли, с другой — они мною лично и близко прочувствованы, они имплицитно во мне содержатся, так что иногда я их вижу во сне, а порою на улице, сознавая, что никому более в этот момент они не заметны. Так было, например, с элементами графической серии «Мутанты», когда я вдруг увидел своих персонажей, но чтобы конечные образы не превратились в анекдот, а стали частицами универсума, между ними и другими элементами потребовалось создать то взаимодействие, то поле, которое, собственно, и несло в себе жизнь, как я ее чувствую.
— Глядя на ваши работы, густо населенные чудовищами и животной машинерией, я вижу вас исполняющим обязанности странного монотеистического божества, насаждающего вавилонские или ацтекские капища, а также соприродные им языческие формы существования…
— А почему языческие?
— По ощущению. Они какие-то множественные, децентрованные, их словно еще не подчинили генеральной идее, возможно, насильственной…
— Они не множественные. Мой мир слагается из нескольких компонентов, образующих нечто целое, в этом смысле он монотеистичен. Иное дело, что он заключает в себе оппозицию универсальных начал, мужского и женского, которые, взаимодействуя через соединительную среду, и составляют его целостность. Проникновение же в мои работы элементов архаики, внешне напоминающих ацтекские, вавилонские или какие угодно иные, было довольно случайным: я не копировал древние образцы, не подражал им, а занимался другим, выясняя, где проходит граница между живым и мертвым. Осмысливая, что такое живое и чем оно отличается от мертвого, я понял: делая голову или портрет, собираясь сообщить им жизнь, не надо имитировать элементы, которые литературно воспринимаются как живые. Например, нечто треугольное с двумя дырочками, похожее на нос, — это как бы уже и нос. Для меня это было не носом, а мертвой схемой, нос для меня — процесс дыхания, глаза — взгляд, уши — слышание, голова — процесс мысли.
Пытаясь воспроизвести эту жизнь и выработать динамичную, пластическую систему, где бы все нашло свое место и обрело контакты с визуальной реальностью, я неожиданно пришел к созданию образов, похожих на архаические, и до меня вдруг дошло, что это и есть путь, которым неизменно следовали художники, в особенности древних времен: тогда не имитировали реальность, а стремились выразить жизнь, и получались негритянские маски, получались… в общем, вы понимаете. Что бы я ни делал потом, всех этих монстров, чудовищ, я руководствовался найденным принципом, и возникали персонажи абсолютно для меня живые, но вместе с тем архаичные; уже после я понял, что архаика лежит в основе любого искусства, будучи его скелетом, подчас невидимым. Архаика есть подлинное переживание бытия, как только искусство его утрачивает, оно перерождается в имитацию внешности, в маньеризм и салон. Каждый этап искусства связан с прохождением этих двух фаз: возьмите Раннее Возрождение, выродившееся в маньеризм, или авангард, ставший салонно-коммерческой деятельностью, что мы сейчас наблюдаем. Но искусство, содержащее элементы архаики, — оно остается, ибо приобщено к глубинному измерению колодца времен, о котором писал Томас Манн, его нельзя имитировать, нельзя ничем заменить.


























