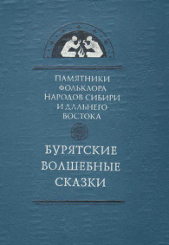Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
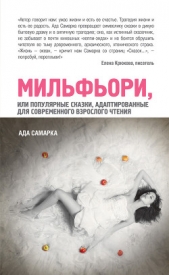
Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения читать книгу онлайн
«Сказка – быль, да в ней намек», – гласит народная пословица. Героиня блистательного дебютного романа Ады Самарки волею судьбы превращается в «больничную Шахерезаду»: день за днем, ночь за ночью она в палате реанимации, не зная усталости, рассказывает своему любимому супругу сказки, для каждой придумывая новый оттенок смысла и чувства.
И кажется, если Колобок спасется от Лисы, если Белоснежка проснется от поцелуя прекрасного принца, однажды и любимый человек выйдет из комы, снова станет жить полноценной жизнью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я на секунду открыла глаза. Комната стала почти уютной – по потолку проползали полосы света от разворачивающихся внизу карет «Скорой помощи». Тени от стоящих на подоконнике растений были огромными, бархатными, как на юге. Продавленные подушки дивана казались необычайно мягкими. Я достала телефон, подключила гарнитуру, включила функцию диктофона, сложила на груди руки и закрыла глаза.
Сказка третья. Белоснежка и семь гномов
Второй брак Ильи Иосифовича Короля можно смело назвать браком по расчету. Хотя, если честно, Илья Иосифович как раз-то и не принадлежал к числу ловких устроителей своей жизни. Но факт остается фактом – 38-летний вдовец с десятилетней дочерью, к тому же еврей, не наделенный особыми талантами и со смутным политическим прошлым – и вдруг становится не просто женатым человеком, а вдобавок и целым комендантом огромного таежного лагеря для ссыльных лиц. В самый разгар чудовищных событий, похоронивших в безымянных рвах всех родственников Ильи Иосифовича, он сам с дочерью оказался в невообразимо далеком тылу, шесть часовых поясов от фашистских зверств и красных репрессий, и ведь никакой не лесоповал, не уголь ждали его там: перловка, гречка и даже белейшая манка, а еще привозной картофель клубнями с кулак, а еще рыбы невиданной вкусноты и жирности, солонина, и все это килограммами, пачками, даже апельсины из Китая. И это когда весь тыл работал на нужды армии и за саботаж ссылали семьями в болота, на вечную мерзлоту. Вот тебе хлеб из муки белой, пожалуйста! – а тут же рядом вши, тиф, голод, цинга, мерзлота вечная, болота. Врач один на восемьсот душ… Вот в этой-то страшной для тысяч других сибирской тайге дочка Ильи Иосифовича поправилась, пропали авитаминозные язвы на коже, щеки и шея сделались словно алебастровыми, глаза как тихая заводь ночью с лунным светом, с густыми неровными ресницами, которые при правильном освещении бросали тени, напоминающие силуэты юкковых пальм. Отец отшучивался, что, мол, она с рождения такая, с ресницами этими, крылоподобными – морщилась, маленькая, плакала, сжимала отчаянно веки, а ресницы торчали кокетливо. Уже тогда люди частенько вздыхали, качали головами, приговаривая: «Мамка ейная небось красавицей была». Тут Илья Иосифович неловко разводил руками, кривил губы в скептической улыбке, морща один глаз, как бы заглядывая, прицениваясь, за горизонт прошлых лет, пожимал плечами, и тут же обнимал, если она стояла рядом, свою новую жену, и отвечал, словно извиняясь: «Да нет, обычная была… то ли дело Маргарита моя…»
Маргарита подобрала их с дочкой в начале июля тысяча девятьсот сорок первого, на Киевщине.
Стояли знойные погожие дни, в солнечных кляксах на изумрудной траве сонно лежали, уютно подобрав под себя копыта, коровы, полуденный ленивый покой наполняло мерное жужжание перелетающих с цветка на цветок насекомых – ни в чем и нигде не угадывался кровавый ужас, который скоро накроет эти земли своим прокопченным решетом со свастикой. Но в Ступках уже все было по-другому. Спешно запихивал в автомобиль рогожные мешки, из которых торчала патефонная труба и свернутый ковер, некий уважаемый человек. Отталкивая в сторону растерянную дочь комсомольского возраста и соответственного порыва, прижимающую к груди гипсовый бюстик Вождя, он с досадой шипел, оглядываясь: «Да брось ты… Черт, черт, не бросай! Оставь, не помещается!» Серьезно нервничал директор детского дома, застывший среди броуновского движения нянечек: предназначенный для них транспорт уже уехал, занятый кем-то другим. Главврач местной больницы подергивал бородку, бормоча под нос немецкие слова из разложенных на столе пыльных медицинских фолиантов. В непонятном волнении пребывали и медсестры – может, с приходом немцев все станет лучше, – хуже, чем было, им казалось, уже быть не может.
Илья Иосифович и не думал эвакуироваться. Вернее, он понимал, что это было бы, наверное, неплохо, но не имелось у него никакой лазейки, никакой такой возможности, ни даже природных способностей эту возможность себе организовать. Он с дочерью, тогда десятилетней своей Бузей – назвали-то дочку Изабеллой, поддавшись всеобщей симпатии к революционной Испании, да не прижилось такое имя в Ступках – ходил от одних друзей к другим, растерянно слушал зловещие новости и надеялся со всеми, что со сменой власти на фашистскую ничего более чудовищного, чем то, что было в голодные тридцатые, когда умерла жена, оставив его с маленькой дочкой на руках, произойти уже не может. Многие теперь, намекая на мрачные для евреев перспективы, слухи о которых долетали до Ступок, советовали записаться добровольцем в армию и уйти на фронт, но оставить дочку Илья Иосифовичу было не на кого. Захватив Новоград-Волынский и Бердичев, немцы уже вплотную подступали к их городку, поползли леденящие душу истории об арестах по тысяче человек, о расстрелах без суда и следствия. Илья Иосифович и сам понимал, что вполне годится на роль арестованного. По роду деятельности он был вообще-то репортером и читать между строчками в газетах умел как никто другой. Тут уже впору было браться за голову и думать, куда бежать с дочкой, как делали некоторые – побросав все свое имущество, на подводах до Днепра, а нет – так пешком, пешком, и там дальше на восток. Но думал он как-то медленно, немец подступал все ближе, Бузя радовалась подаренным с подозрительной щедростью платьям – ничего, что великоваты, – и белым носочкам, смеялась и играла в опустевшем школьном дворе…
И тут на автомобиле с водителем приехала Ритка – сапоги чуть не трещат на толстых ногах, а лицо под пилоткой – попростевшее, жесткое, а глаза, как и раньше, круглые, девичьи… С Риткой было связано много историй в этом городе, и у Ильи Иосифовича они тоже имелись. Еще у него имелось одно свойство, которое, при определенном раскладе, могло заменить отсутствующие таланты и жизненную смекалку – был он до неприличия хорош собой. Особая породистая мужская красота с тонкой проработкой деталей – жесткая сухая линия скул и подбородка, неожиданно добрые внимательные глаза, четкие брови и твердый рот. А к этому – хорошо слепленное тело мужчины – не дядьки и не хлопца, ассоциирующееся не столько с возведенной в эталон квадратной мощью пролетарской мышцы, сколько с триумфом здоровой плоти времен греческой античности. Словом, явное происхождение от потерянного колена Израилева… И Ритка, приехавшая в родной городок, чтобы забрать старую мать, увидела его – растерянного и неприкаянного, переходящего от двора ко двору среди истерической сутолоки, отрешенно скользящего взглядом по рассыпающимся с подводы сумкам, свежим доскам на забитых окнах, трогательно держа за руку тонконогую черноволосую девочку с нерусским лицом, белевшим под низко завязанным, как у тетки, платком.
Слово за слово – узнав, что из родных у них никого не осталось, жены нет уже давно, Ритка вдруг почувствовала, как жар ударил в лицо. Пахнуло на миг хмелем и душицей августовского ночного луга, пьяной юностью, вспомнилось, что Илья ей, собственно, всегда нравился, хотя забавляла его порядочность и старомодно-галантная манера обращаться с женщинами, и, дрогнув сердцем, но не голосом, она сказала, что на сборы с дочкой у них есть, чертова холера, десять минут.
Они уехали на автомобиле с шофером в военной форме, и вечером того же дня в городок вошли немцы, а на рассвете третьего дня, когда Бузя скорчилась, поджав под себя ноги на верхней полке забитого до отказу вагона, бодро отстукивающего спасительные километры на восток – всех евреев, коммунистов, а также беспартийных с подозрительными фамилиями – погрузили в странного вида удлиненные автобусы без окон и вывезли на песчаный пустырь в лесу, с уже подготовленными рвами.
То, что испытывал Илья Иосифович к Ритке, уж любовью-то назвать было нельзя. С участием, уважением, заботой он относился бы к любой женщине, оказавшейся рядом, а то, что женщина эта фактически спасла его с дочерью, вознесло Ритку на просто заоблачную высоту, и отсутствие там самого желанного для женщины романтического компонента ее на первых порах особо не огорчало. Илья Иосифович просто любил только Бузю – хотя мог и прикрикнуть на нее, и вообще с дочкой особенно не церемонился, но в той родственной немногословной простоте их отношений крылось нечто, напрочь отсутствующее в его отношениях с Риткой. Ритка чувствовала себя с ним, несмотря ни на что, – странно чужой, не из одной семьи, хотя сырыми таежными буднями в комарах и болезнях, казалось, даже самые чужие люди под одной крышей должны бы сплотиться и стать в конце концов чем-то вроде родственников. А вот они с мужем были сшиты наживо, кое-как – чего греха таить – ведь просто обоим хотелось, разменяв четвертый десяток, иметь свое гнездо…