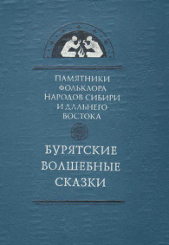Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
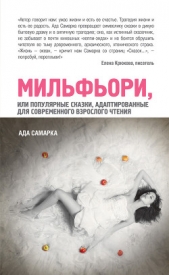
Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения читать книгу онлайн
«Сказка – быль, да в ней намек», – гласит народная пословица. Героиня блистательного дебютного романа Ады Самарки волею судьбы превращается в «больничную Шахерезаду»: день за днем, ночь за ночью она в палате реанимации, не зная усталости, рассказывает своему любимому супругу сказки, для каждой придумывая новый оттенок смысла и чувства.
И кажется, если Колобок спасется от Лисы, если Белоснежка проснется от поцелуя прекрасного принца, однажды и любимый человек выйдет из комы, снова станет жить полноценной жизнью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Что ты тут забыла?! Как ты можешь тут находиться? Ты посмотри… ты оглянись, где ты живешь, Белка! – Он мял руками воздух, словно пригоршни порченого сырья. – Да я же к тебе приехал, ты, дура, коза ты, я восемьсот верст отмахал сам за рулем без остановок, чтобы забрать тебя! Да я щас урою этого урода, раз он так запугал тебя, урою н…й!
Дядя Дима наблюдал за ними со второго этажа, глядя в щель между шторами. Молодой человек, чуть не падая от отчаяния, тяжело залез в машину, резко сдал назад, потом вперед, развернулся и с ревом уехал, быстро исчезнув в дождливой мгле.
Спустя несколько вечеров они, как всегда, сидели в гостиной за керосиновой лампой. К автомобильному аккумулятору подключили старую магнитолу и слушали радио «Проминь», где после интервью с орнитологами-полярниками уже минут 15 передавали джаз. Белла перечитывала «Войну и мир» и неожиданно спросила:
– А вы приблизительно хоть представляете, как танцевали мазурку?
Дядя Дима от неожиданности встал. Мазурку танцевать он, конечно, не умел, но сам вопрос, словно пробив деревянные ящики его новой, полной ограничений жизни, ее голос поверг его в то естественное и прекрасное состояние, когда уместно задавать подобного рода вопросы.
– Я не уверен…
Белла тоже встала, глядя на него так, будто перед ней был не совсем он:
– Такая музыка чудесная, можно, я попробую?
– Со мной? Мазурку?
– Да, да, что-то вроде, – она накинула на плечи шарф, в который куталась последнее время, стала к дяде Диме вполоборота, приподняла руку, он догадался, осторожно взял своей клешней. Музыка была легкой, приятной, хотя к мазурке не имела никакого отношения. Белла несколько раз легко, ненарочито коснулась его всем телом, и была теплой, мягкой, как то сентябрьское послеобеденное тепло, а дыба внутри его тела, словно смазанная маслом, легко отщелкнула несколько витков назад.
Когда установилась ясная, хотя и очень ветреная погода, они стали гулять: далеко-далеко, вдоль берега, и за много километров пути им встречались только чайки, а пейзаж был неизменно гладким, срывающимся обрывом к серому морю с низким алым солнцем, садящимся непривычно сбоку, совсем не там, где летом. У Беллы не было теплой одежды, и дядя Дима давал ей свои камуфляжные брюки, пахнущий мускатным орехом и драгоценным сибирским деревом свитер, рыболовецкую брезентовую ветровку с большим капюшоном, резиновые сапоги, в которые она подкладывала скрученные носки. Когда шли обратно и ветер дул им в лицо, Белла бралась обеими руками за его локоть, прижималась к плечу.
Однажды дядя Дима поехал в город за продуктами. Беллу он не звал, и она какое-то время слонялась одна по ставшему вдруг таким большим и незнакомым дому, слушала ветер, заходила в комнаты, поправляя подушки и одинаковые покрывала. Потом оказалась перед внутренней дверью в его квартиру – оббитая дерматином, эта дверь, в торце коридора, находилась на небольшом возвышении и была как бы в стороне от остальных дверей, и Белле никогда раньше не приходило в голову зайти туда, особенно в свете четкого и однозначного запрета хозяина. Подумав, что это было в разгар сезона, когда имелись все основания не доверять ей, и что там вполне могут быть книги, и что там, скорее всего, закрыто, Белла опустила ручку, чуть потянула на себя, и с легким щелчком дверь поддалась.
В крошечной прихожей были совсем другие, блеклые советские обои, тут и пахло иначе. На полу валялись какие-то куртки, вперемешку с обувью. Некоторые ботинки были почти новыми и заметно меньше тех, более поношенных, которые иногда надевал дядя Дима. Сперва Белла прибрала все это, развесив по вешалкам в обклеенном потрепанными обоями встроенном шкафу, распихав по полкам. В комнате все стены были облеплены фотографиями, преимуществено армейскими. Пейзажи были какие-то афганские, с барханами и горами, ребята на бэтээрах, правда, выглядели чуть современнее, да и печать была цветной, новой. Было много снимков ребенка, скорее всего мальчика, и женщины, его мамы. Местами они были втроем или вдвоем – молодой мужчина, почти еще юноша, сероглазый, с высоким лбом, казался смутно знакомым. Было много фотографий той женщины – она выглядела довольно просто, с волевым неулыбчивым лицом, светлыми прямыми волосами до плеч. Была свадебная фотография с позолоченной в углу датой – ‘95-й год.
Посередине комнаты, возле незастланного, с несвежим бельем, дивана стоял стол. Белла сложила стопкой немытые тарелки с окаменелостями и присохлостями, обрадовалась, обнаружив пропавшую месяц назад чашку из чайного сервиза, сгребла в ладонь и выбросила в окно крошки. Колючий морской ветер моментально обжег лицо и руки, в свете электрической лампочки еще душистее запахло соленой водорослевой свежестью. Кроме посуды, на столе валялись какие-то письма, несколько пластиковых альбомов с фотографиями, сильно потрепанных от частого просмотра. Там были преимущественно те же женщина и ребенок. Снимали плохой камерой, вроде «мыльницы», лица вблизи получались белыми и размытыми, как блины, с красными глазами. На месте одной из фотографий в пластиковый кармашек было вложено письмо, написанное на листочке в клетку.
На полке с книгами (они теперь уже и не так интересовали Беллу) стояли какие-то кубки, лежали медали и грамоты. Там же она обнаружила резную деревянную шкатулку с документами.
Дмитрий Юхно родился в Воронеже всего-то в семьдесят пятом, ему был тридцать один год. Учился он почему-то в краевой школе аж на Дальнем Востоке, о чем говорили выпускные документы. И на стене висело несколько северных пейзажей – далекие горы, лишайники, какие-то люди в тулупах на фоне заснеженных пятиэтажек. Трудно было угадать, какой именно из этих молодых, плечистых, здоровых людей – он сам.
Жену звали Валя, и дядя Дима хранил все ее письма, где она простым языком, крупными, с наклоном буквами писала что-то о своей жизни, как большой твердый горох неуклюже роняя то тут, то там признания в любви.
В 1995 году у них родился сын, Мишенька. Наверное, Вале было тяжело, потому что нашлось ее письмо, не отправленное кому-то, где такими же большими, уверенными буквами она писала, что хочет наложить на себя руки.
Мишенькины фотографии, что характерно, были примерно до трехлетнего возраста.
В девяносто седьмом году дядя Дима попал на войну, про эту часть его жизни письменных свидетельств почти не было – только грамоты, медали и потом там, в жарких горных долинах, с ним и случилось то самое страшное, из-за чего, все теми же отрывчатыми короткими фразами, Валентина писала ему, в госпиталь, в Москву: «…доктор мне сказал, что с твоим лицом лучше не будет никогда. И никакая операция не поможет. Что ты инвалид на всю жизнь. Мише нужен здоровый и сильный папа. Я молодая еще женщина. У тебя раньше была беспричинная злость. Сейчас будет совсем невыносимо. Мы уезжаем далеко. Адрес не ищи. Так будет лучше для всех нас, особенно для Миши».
Был ворох медицинской документации – тонкие, с осыпающимся грифелем полосы кардиограмм, похожие на буклеты, многостраничные расшифровки магнитно-резонансных томографий, там же нашелся его паспорт, российский, со штампом о разводе.
Была пожелтевшая от времени вырезка из газеты, с обведенным синей ручкой объявлением – женщина тридцати лет, есть сын, жилья нет, познакомится для создания семьи с инвалидом. Познакомились ли они, было неясным – ни одной фотографии после девяносто седьмого года найти не удалось. Было письмо от его родителей, они поздравляли с двухтысячным годом и скупо просили прощения за что-то, мотивируя той же фразой, что «так будет лучше для всех».
«Наверное, он хотел приехать, навестить их…» – подумала Белла, и в этот момент распахнулась вторая, уличная дверь. Первое, что попалось дяде Диме под руки – стоящая на диване шкатулка с документами, – он швырнул ею в окно, выбив стекло. Холодный ветер ворвался в комнату, зашатав лампочку под потолком так, что на стенах заплясали тревожные тени. Потом двумя огромными шагами подскочил к столу, поддев его локтем (клешня совсем не слушалась), перевернул на диван, небольно придавив им Беллу, потом, бормоча, сопя, стал срывать со стен фотографии, рвать и топтать их. С его лица густыми каплями сыпались слюна и слезы. Потом, задыхаясь, тихо провыл: «пошла вон… пошла вон отсюда!»