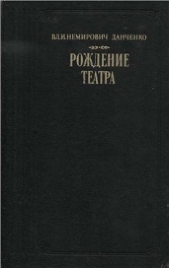Театральное наследие. Том 1

Театральное наследие. Том 1 читать книгу онлайн
Книги являются пособием по изучению литературно-творческого наследия Владимира Ивановича Немировича-Данченко, выдающегося режиссера и учителя сцены, соратника К.С.Станиславского, создавшего вместе с ним мировую сцену МХАТ.
Том 1. Статьи, речи, беседы, письма
Том 2. Избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
социальном,
жизненном,
театральном.
Большею частью бывает так: театральное представление или социально и жизненно, но не театрально, то есть благополучно в нем и идейное содержание, и жизненная правдоподобность, но оно лишено того радостного возбуждения, которое существует в самой природе театра;
или оно жизненно и театрально, но не социально, то есть и правдиво, и радует как искусство, но лишено идейного стержня;
или оно социально и театрально, но не жизненно, то есть ясна и ярка идея общественная или политическая, притом представление сценически эффектно, производит впечатление, но выдумано, неправдоподобно.
В идеале же только соединение всех этих восприятий дает полноту художественности, создает полноценное театральное произведение.
Разберемся в каждом восприятии отдельно, а потом будем думать, какая из этих волн важнейшая и как достигать синтеза их?
{179} Так вот, первое: социальное восприятие. В первые годы революции на эту сторону театрального произведения было обращено особое внимание. И это понятно. Проведение революционных идей в жизнь должно было идти по всем фронтам бытовой жизни, по всем фронтам культуры и ее насаждения. Театру не только нельзя было миновать эту задачу, а, наоборот, следовало с особой энергией, силой взяться за ее выполнение. Тут можно было бы поставить нотабене[161] и много говорить о роли театра в жизни населения вообще, о том, что театром проводились решительно все политические, общественные течения жизни. До революции эту сторону произведения мы называли «идейностью», но понимали это слово достаточно абстрактно, и оно могло увести в такие дебри или, наоборот, в такие заоблачные выси, что общественное значение произведения тускнело и притуплялось. В этом смысле слово «социальность» настойчиво звенит современностью.
Вот тут, в этом различии понимания «идейности», и находится зародыш заблуждений, с которым совершенно необходимо считаться всякому создателю спектакля. Если на краю одной стороны находится туман, заоблачные выси, которые притупляют общественную линию спектакля, то на другой стороне, то есть там, где требуется заостренность социальных идей, можно впасть в так называемую плакатность, которая будет уже вредить общему художественному построению спектакля.
Значит, и те создатели спектакля, которые попадали в туманные выси «вечных идеалов» человечества, грешили перед искусством, утрачивая глубокую правдивость и жизненность образов или театральность. И те горячие умы, которые заостряли вопросы социальности, впадали в другую ошибку, когда делали театральное произведение плакатным, потерявшим самую сущность законов театра.
Я думаю, что было бы ошибочно искать и так называемую золотую середину. Золотая середина, на мой вкус, — явление всегда в искусстве вредное. Едва ли не первая формула моего театрального искусства: на сцене ничего не может быть «чересчур». Если зерно, основная задача и глубинное сквозное действие взяты и направлены верно, то никакая яркость театрального выражения не будет чрезмерной, не будет «чересчур». А если в основном темперамент спектакля, актеров, режиссуры направлен в неверную сторону, то даже не особенно яркое проявление темперамента может показаться преувеличенным. Поэтому, когда раздаются критические возгласы: «Да, это хорошо, {180} но это слишком!», то это просто означает, что что-то взято неверно. Золотая же середина — это ни горячо, ни холодно.
Я смотрю на дело так. Создатель спектакля — режиссер или актер — должен быть сам по себе, если можно так выразиться, социально воспитанным человеком, независимо от того материала, с которым ему приходится иметь дело. Когда он начинает работу, он и как художник, и как гражданин, и просто как член человеческого семейства должен обладать чуткостью в вопросах этики, идейности, политической устремленности, гражданственности, что и составляет сущность социальности. Я сам таков и иначе не умею подходить ни к каким вопросам жизни, или культуры, или искусства. Я вовсе не заставляю себя не забывать об этом. Если я сам таков, то какое бы явление жизни я ни брал материалом для своего творчества и в какую бы форму ни облекал свое восприятие и вставшие передо мной задачи, я всегда отвечу на требование социальности[162].
Если я не обладаю даром художника и если я все же понесу свои мысли и переживания на кафедру, на ораторскую трибуну, то я могу в зависимости от моего ораторского дарования производить той или иной силы впечатление, исполняя при этом необходимую в общественной жизни работу. Но это не будет искусство. Если же я художник, одаренный и социально воспитанный, если я обладаю даром заразительности, тем, что называется талантом, если жизненные явления я превращаю в произведения искусства, то я непременно буду жить как художник в течение всей своей работы, в течение создания образа и завершения его и жизненностью и театральностью, и тогда социальность как важнейший элемент произведения искусства займет свое место. И не понадобится разговаривать о «чересчур», или о «золотой середине», или о «туманных высях», или о плакатности — обо всем том, что нарушает гармонию целого.
Помню, до каких крайностей доходили в первые революционные годы. Даже в высшей степени почтенные люди предъявляли к искусству явно односторонние требования. Например, резко осталось в памяти: МХАТ возобновил в новой постановке «Ревизора». И появилась статья, большая критическая статья театрального критика Блюма, который резко нападал на постановку. Самый основной его упрек заключался в том, что спектакль идет под сплошной хохот. Он возмущенно писал: «Как мог театр допустить такую интерпретацию тоголезской злейшей комедии! Надо, чтобы публика сидела, возмущенная взяточником Сквозник-Дмухановским и другими…» Вот до какого {181} абсурда можно дойти, стремясь искать в театре непременно ответа на те или иные идеи, целиком охватившие критика. В этом заблуждении критик все забывает: и задачи самого Гоголя, и глубочайшее значение смеха в театре, и законы реализма, установленные автором — создателем реалистического театра, и актеров, вдохновенно следующих за автором, и даже просто огромную культуру самого МХАТ, к которой нельзя было относиться так с кондачка.
Эта критика Блюма тогда вовсе не составляла исключения. Я мог бы припомнить множество таких грубейших ошибок. И требовалась величайшая осторожность, я бы сказал — мудрость режиссуры или администрации, для того чтобы взять от подобной критики нечто существенное и не поддаться фальшивому, хотя и горячему убеждению.
2
Когда я беру такой порядок: первое — социальное, второе — жизненное, третье — театральное, с моей стороны нет какой-нибудь определенной установки. Но считаю, что жизненное содержание в произведениях сценического искусства является самым богатым, самым старым и возбуждающим самые спорные вопросы.
С подражания жизни начался театр. Внимание актера, автора во все времена театра устремлено было всегда именно на эту сторону. В первую очередь — на эту сторону. Это рождало множество вопросов: какой жизненный материал достоин драматической обработки, а какой считается низменным? Какой дышит правдой, а какой неубедителен? В какой мере театр должен захватывать жизненные краски для того, чтобы оставаться театром, а не романом или повестью? Что такое психологизм, натурализм и другие «измы»?
Попробуем разобраться в том, с чем мы встречаемся на каждом шагу в репетициях, в подготовительной работе. Во-первых: резкое различие между жизненным и житейским. Во-вторых: это житейское надо понимать не как бытовое. Говорю так вовсе не из желания обесценить этот материал. Быт, если его брать как главнейшую задачу, конечно, приводит к так называемому натурализму, то есть к изображению жизни без социального подхода. Но быт во все времена был, по-моему, есть и будет одной из привлекательнейших сторон в искусстве. Я даже плохо себе представляю, как можно получить полноценное радостное впечатление от театра без того, чтобы со сцены не веяло тем, что называется бытом. И всякий из нас легко припомнит множество театральных впечатлений, где нас радовало {182} меткое актерское использование бытовых черточек. Такой театр, как Театр сатиры, можно сказать безошибочно, только и держится именно на этом метком, ловком, умном охватывании житейских мелочей. И пренебрежительно относиться к этому, гордо отталкивать — вовсе не значит быть на высоте искусства. Но когда драматург, театр, актер на этом и останавливаются, ограничиваются той художественной радостью, которую они приносят, изображая быт, — это, конечно, значит, что они снижают значение театра до бесполезности, до пустой забавы. Жизненное содержит в себе житейское только как неисчерпаемое богатство подробностей, как частичные краски, которые помогают приблизить важнейшее содержание к зрителю, придать важному больше убедительности. Жизненное можно было бы лучше всего определить как правду, человеческую правду. Отсюда психология, психофизика, бури человеческих страстей, столкновения этих страстей в сюжете, содержащем драматический конфликт. Следовательно, это область, больше всего захватывавшая великих драматургов, поэтов всех стран и веков, начиная с древнейшей драматургии две тысячи лет тому назад. И так как эта область совершенно неисчерпаема, и так как она является основой всей жизни, всех гражданских, семейных, общественных взаимоотношений, то понятны и вечные споры о том, что такое настоящая жизненная правда.