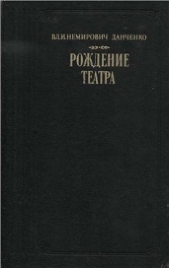Театральное наследие. Том 1

Театральное наследие. Том 1 читать книгу онлайн
Книги являются пособием по изучению литературно-творческого наследия Владимира Ивановича Немировича-Данченко, выдающегося режиссера и учителя сцены, соратника К.С.Станиславского, создавшего вместе с ним мировую сцену МХАТ.
Том 1. Статьи, речи, беседы, письма
Том 2. Избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самый пересказ как будто не портит романа, но, в сущности, он совершенно искажает его глубокое социальное и человеческое значение. У автора этот рассказ о поведении Катюши дан потом, в воспоминаниях Нехлюдова. Толстой начинает рассказ с момента, когда Катюша уже публичная женщина, большей частью полупьяная, опустившаяся внутренне и внешне. Словом, автор показывает вам эту женщину в ее падении, бросает сильнейшее обвинение всему обществу и затем дает рассказ о путях исправления падшей женщины.
В таком подходе к сценической передаче романа, я думаю, заключается отличие нашей постановки от дореволюционной. Могу сказать с уверенностью, что до революции я бы так не посмел поставить спектакль. А если бы посмел, то все эти Бардины и вся наша интеллигенция его не приняли бы, освистали. Я уж не говорю о высоком чиновном мире, который подверг бы театр крупным взысканиям. Раскрыть на сцене историю взаимоотношений Катюши и Нехлюдова так же смело, как это сделано в романе, стало возможно только теперь.
{164} Очень интересно остановиться на «Лесе» Островского. В самые последние годы эта пьеса, по-моему, совершенно искажена и в московском Малом театре и в ленинградском Александринском. Центральная женская фигура Гурмыжской интерпретируется в виде какой-то ветреной, взбалмошной женщины институтского воспитания. Весь тон актрисы легко-комедийный. Пьесу ставили, не справившись с зерном спектакля, не вдумавшись в нее и не сделав попытки впитать ее эмоциональную сущность. Поэтому нет «леса», дебрей фарисейства, невежества, среди которых образ Несчастливцева является великолепной романтической фигурой. А в пьесе важна, существенна какая-то грустная противоположность артистической оторванности Несчастливцева от действительности — дремучему лесу, где его тетка, к которой он относится со священным уважением, оказывается фарисейкой, в 55 лет выходящей замуж за двадцатилетнего гимназиста… Без такого глубокого, яркого противоречия между душой артиста [Несчастливцева] и невежеством «леса» нет романтизма, нет поэзии. И поэтому эти постановки сводятся к хорошо играемым отдельным кускам, отдельным сценам.
Второй план[153]
Идею второго плана приписывают мне. Я должен отклонить от себя эту честь.
То, что я называю вторым планом, было у актеров старого театра, но отнюдь не как постоянный элемент их школы, а как случайный, неосознанный. Но тем лучше актер играл роль, чем сильнее жил он вторым планом. Просто этого не сознавали, как не сознавали этого и актеры нашего направления на первых этапах развития. Я только определил. Сейчас как будто этот элемент актерского творчества начинает осознаваться у нас в театре довольно широко. И все-таки требуется уточнение: что это такое — второй план.
Первое, важнейшее положение: второй план исходит от зерна пьесы. Нельзя допускать для гармоничного спектакля, для театра ансамбля, нельзя допускать, чтобы важнейшие, основные переживания актера, диктующие ему все приспособления, были оторваны от зерна пьесы. Это повело бы к художественному анархизму, спектакль потерял бы единство. Актер отыскивает свой второй план в связи с местом, какое он занимает в пьесе, пронизанной основной идеей, исходящей от зерна.
Ливанов, играя Соленого, сразу начинает рисовать его голову[154], как бы сказать, сразу начинает с характерности. Мы знаем, что всякий художник начинает по-своему: один — от {165} идеи, другой — от какой-то жизненной картины, третий — от какого-то образа, четвертый — даже просто от желания провести какой-то уже нажитой образ, и так далее… Без конца.
Вот Ливанов начинает с характерности. И когда устанавливается зерно спектакля — тоска по лучшей жизни, — он, вероятно, некоторое время находится в растерянности. Но вот такой бретёр, воображающий себя Лермонтовым, считающий себя даже похожим на Лермонтова, образ, который актер из какого-то тайника своей души высмеивает, рисует его курносым, как бы сразу попадает в цель в смысле авторского отношения.
Некоторое время товарищи по спектаклю, кажется, даже считали, что Ливанов впадает в грубейшую ошибку, что он хочет играть Соленого действительно каким-то Печориным (пока Ливанов не сделал его курносым). Может быть, так оно и было, но талантливый актер очень скоро заметил, что автор относится к Соленому отрицательно и высмеивает его, не делая, однако, его фарсовой фигурой, а даже прямо связывая его образ с таким тяжелым, трагическим эпизодом, как дуэль и смерть Тузенбаха. Ведь Соленый в конце концов убивает Тузенбаха, которому автор, по-видимому, очень симпатизирует, молодого мужа Ирины, которую автор положительно любит. Этот курносый офицер, воображающий себя Лермонтовым, сочиняющий безграмотные стихи, в то же время пренебрегает опасностью, смертью, обладает еще даже очень трогательной чертой — он без ума влюблен в Ирину.
Когда актер как следует разобрался во всех этих элементах, как следует не только осознал умом, но и охватил переживаниями, он увидел, что вся сложность характера Соленого легко оправдывается объявленным зерном пьесы — тоской по лучшей жизни. Как мы знаем, исполнение получилось не только блестящим, но и глубоким. Образ, который в прежней постановке МХАТ был мало понятен и занимал третий план, вырос в крепкую, даже страшную фигуру. Ирина говорит: «Я не люблю и боюсь вашего Соленого».
Получился один из тех случаев, когда актер не только схватил замысел автора, но воплотил его глубже, шире авторских надежд.
Так было с графом Шабельским в «Иванове» (Станиславский), с Крутицким в «Мудреце» (Станиславский), с Епиходовым (Москвин) в «Вишневом саде».
Осознание второго плана важно не только для внутреннего созревания роли, но и для одной из важнейших областей нашего искусства — борьбы со штампами. Мы все знаем, что уловить актерские штампы вовсе не так легко, в особенности, когда это штампы талантливых, обаятельных актеров; легко их не заметить. {166} Когда же заметишь, то необходимо предложить актеру средств для того, чтобы эти штампы вырвать. Правда, и это надо делать с известной осторожностью. Есть актеры, у которых вырывание штампов приводит к обескровливанию актерского творчества, и вместе со штампом вырывается и нечто живое. Мы знаем, что актеры сами не замечают, когда они попадают на штамп. Опять-таки чем актер богаче в своем репертуаре, чем больше он пробыл на сцене, чем больше подарил он ролей, образов, великолепных впечатлений, тем больше накопилось у него штампов. Трудно было бы быть без штампов, например, Станиславскому, который создал не только те образы, какие он воплощал сам, но и те, которые он нарисовал актерам как режиссер.
Есть штампы, против которых я решительно не возражаю. Объясню сейчас. Вот Станиславский мечтал создать такое искусство, которое позволило бы актерам творить во время спектакля настолько свободно, как будто они играют его первый раз. Свободно от всех нажитых приемов 40, 50, 200 представлений этой пьесы. Мечтал, так сказать, о живой свежести творчества каждого спектакля, не только совершенно лишенного нажитых штампов, но полного неожиданностей даже для самого актера. Более или менее приближался к такому искусству Михаил Чехов. У него действительно являлись неожиданности, и даже когда он повторял роль во многодесятый спектакль. И это было не только в комедии «Потоп», но и в такой ответственной роли, как Хлестаков.
Однако было бы вредным и непростительным фарисейством утверждать, что исполнение было действительно совершенно свободным. Неожиданностей у Чехова было две‑три‑четыре на протяжении всего спектакля. И это самое большее. Все остальное игралось так же, как и в прошлый раз. А некоторые пятна, которые были хорошо приняты публикой, утверждались до штампования. Сам Станиславский, играя того же Крутицкого, не отказывался от приемов, уже использованных им раньше. Скажем, с ручкой двери, или исследованием испорченной половицы, или напеванием марша, с рукописью, обращенной в зрительную трубу… Это все было уже штампами, о которых я говорю, что я против них не возражаю. Но тут есть одна чрезвычайно важная оговорка. И Чехов в своих нажитых приемах и Станиславский знали хорошо, что, подходя к этим удачным пятнам роли, они должны использовать не внешние краски, а ту мысль, те переживания, которые возбудили эти краски в первый раз. Стало быть, фантазия, мысль, подсказанная актером его нервам, обращалась именно к психологическому источнику этого художественного выражения, а не просто к внешнему выражению. А вот когда я вижу, как Тартюф в сцене ухаживания за Эльмирой выражает {167} свое волнение тем, что его правая рука не остается спокойной и пальцы на ней судорожно двигаются, я не воспринимаю этого, я чувствую, что это сделано, а не вызвано живыми эмоциями. Стало быть, актер попадает на неприемлемый штамп. Я и говорю, что бороться с такими штампами должно окунувши свою мысль во второй план, вспомня сущность Тартюфа в данной интерпретации. Мысль подскажет и источник внешней краски.