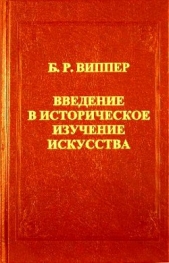Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
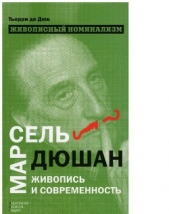
Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность читать книгу онлайн
Предметом книги известного искусствоведа и художественного критика, куратора ряда важнейших международных выставок 1990-2000-х годов Тьерри де Дюва является одно из ключевых событий в истории новейшего искусства - переход Марселя Дюшана от живописи к реди-мейду, демонстрации в качестве произведений искусства выбранных художником готовых вещей. Прослеживая и интерпретируя причины, приведшие Дюшана к этому решению, де Дюв предлагает читателю одновременно психоаналитическую версию эволюции художника, введение в систему его взглядов, проницательную характеристику европейской художественной сцены рубежа 1900-1910-х годов и, наконец, элементы новаторской теории искусства, основанной на процедуре именования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тезисы Гринберга свидетельствуют о тупике, в который ведет онтологическая концепция специфичности живописи, доводя ее до абсурда. Стремясь показать что «модернистская живопись» одну за другой демонтирует исторические конвенции живописи, чтобы крепче укоренить последнюю в ее неприводимом бытии, они в конце концов локализуют это бытие в формально-технических характеристиках чистого холста, реди-мейда, купленного в магазине художественных принадлежностей! Зачем же останавливаться на этом прекрасном пути, не признавая имени живописи за дюшановским писсуаром? Или даже раньше, отказываясь называть живописью «Черный квадрат» Малевича, монохромные работы Родченко или унизм Стржеминского? Собственно, Гринберг молча не признает и их. Его слепота к Дюшану сопровождается слепотой к русскому конструктивизму, не говоря уж о польском, которого для него просто не существует. Но даже если ограничиться американским абстракционизмом, знамя которого он сознательно нес, как иначе объяснить его недовольство семью белыми картинами Раушенберга («White Painting», 1951), его молчание по поводу «черного периода» Рейнхардта, его невнимание к «решеткам» Агнес Мартин, его замешательство перед черными картинами Стеллы? Как только художник решает буквально следовать его определению «фундаментальных условий живописи», Гринберг отказывается его понимать. На то были веские причины, поскольку в противном случае ему пришлось бы либо засвидетельствовать смерть живописи, либо пересмотреть всю свою теорию и предпочесть, как делаю вслед за Дюшаном я, эссенциализму номинализм8.
Таким образом, слепоту Гринберга к реди-мей-ду следует расценить как следствие непреодолимой склонности определять специфичность живописи онтологически и нежелания рассмотреть ее в номиналистском ракурсе. Но ведь в конечном счете между готовым, ready made, холстом и реди-мейдом как таковым оспаривается не картина, а имя живописи. Конечно, Гринбергу известно, что исторически решающей в вопросе специфичности живописи является отнюдь не априорная логическая категория и что основанием для присвоения тому или иному объекту имени живописи не может быть раз и навсегда определенное понятие. Решение принимается посредством ценностного суждения — эстетического суждения, апостериорным следствием которого выступает сужение или расширение понятия живописи и установление тем самым исторического уровня ее специфичности. Гринберг понимает это лучше большинства критиков. То, что он называет неприводимостью живописного искусства, видится ему как результат исторического процесса, от начала и до конца образуемого сменой эстетических суждений. Поэто-му-то он и останавливается на пороге последнего суждения: «натянутый на подрамник или прибитый к нему холст уже существует в качестве картины, не обязательно при этом будучи картиной удачной». Только ведь и до последнего суждения или исторического момента, когда необходимые и достаточные условия картины окажутся приведены к ее плоскости и контуру, ставкой каждого эстетического суждения является имя. Со времен Мане и Малларме «жюри не в состоянии сказать ничего, кроме: „Это картина11 или „Это не картина1'». Задолго до Дюшана и Малевича институциональная история современной живописи придала эстетическому суждению вербальную форму наименования.
После Дюшана история решила, что реди-мейд был искусством, присвоила ему это родовое имя. Но следует ли нам, оборачиваясь назад, сказать также, что реди-мейд — это «живопись», можно ли сознательно утверждать, что он заслуживает этого специфического имени? Сказать: нет, сославшись на то, что реди-мейд создан не художником, что он не обнаруживает признаков ремесла — как «старинного ремесла живописи», разрушенного еще Сёра и Сезанном, так и «нового ремесла», чаемого Делоне,—значит решить, что «Черный квадрат» Малевича, в котором ремесла не больше, чем в дюшановском писсуаре, тоже не может быть назван живописью. Сказать: нет, сославшись на отсутствие оснований связывать реди-мейд с живописной традицией и в том числе с традицией «модернистской живописи», поскольку он уже не соответствует «фундаментальным условиям» картины (даже как чистого холста), значит заявить о готовности назвать живописью готовый холст из магазина и «Черный квадрат», но не писсуар Дюшана. Оба решения неприемлемы. Отказав в статусе живописи «Черному квадрату», мы лишим историю модернизма самой значимой части, с кем бы она для нас ни ассоциировалась —с Малевичем или с шедшими параллельными путями и не в меньшей степени, хотя и по-своему, отметавшими живописное ремесло Лисицким, Родченко, Мохой-Надем, всеми конструктивистами, Мондрианом, Поллоком, Ньюманом, Стеллой и т.д. Перечеркнув же знак равенства между готовым холстом и реди-мейдом, который холстом не является, мы сочтем незыблемыми условия вовсе не фундаментальные, а только лишь соответствующие послеренессансной станковой живописи. А это, в свою очередь, значило бы не признать не только существования множества живописцев, работающих сегодня на не натянутом холсте и других основах, но и —задним числом —того, что когда-ли-бо занимались живописью древние греки, писавшие на вазах и щитах, которые не отвечают «фундаментальному условию» плоскости. В таком случае надо сказать: да, реди-мейд следует называть живописью? Можно попробовать, сославшись на то, что факт его непринадлежности художнику радикализует тот самый отказ от ремесла, что придает исторический и эстетический вес «новому ремеслу» живописи. От Мане до Малевича отказ от ремесла является ремеслом и ничто так, как его отрицание, не утверждает живописца в качестве живописца. К этому следует добавить, что именно демонтаж живописных конвенций образует историю модернизма — демонтаж, также действующий посредством отказа,—и потому реди-мейд, сводя счеты с конвенциями холста и подрамника, утверждает свою принадлежность к традиции с предельным радикализмом. Впрочем, этот путь очень быстро приводит к неразрешимому парадоксу: готовый писсуар должен быть признан более чистой «живописью», чем готовый холст, а Дюшан — в большей мере живописцем, чем Малевич. По большому счету имени живописи заслуживает только тот, кто радикальнее всех откажется от всяких видимостей и конвенций. В этом случае имя живописи—не что иное, как синоним мертвой живописи, не более чем номинальный след ремесла, суммы конвенций и традиции, окончательно исчезнувших из истории. Но для чего же тогда сохранять это имя? Парадокс в том, что, хотя реди-мейд должен быть назван живописью, это имя обозначает лишь расширение его собственной способности именования. Живописи больше нет, есть искусство. И это решение также неприемлемо, ибо оно, во-первых, исключает из истории модернизма все, что соответствует той или иной живописной конвенции; во-вторых, незаконно отождествляет стратегию отказа, являющуюся лишь частью модернистского демонтажа, со всей совокупностью его стратегий; и, в-третьих, в конечном счете оправдывает фантазм чистого листа и уподобляет современную невозможность живописи полной утрате памяти о ее прошлом. В конкретном смысле это значило бы решить, что после Малевича и Дюшана, особенно после Дюшана, не только нельзя быть художником, не будучи нехудожником или антихудожником, но и что к тому же нужно забыть, что живопись некогда существовала. Выражением подобной иллюзии является идея, будто после абстракции нельзя возвращаться к изображению, после монохромности — к живописной пространствен-ности, а после концептуального искусства — к отсталой практике живописи как таковой. Эта идея упускает из виду различие между возвратом в прежние конвенции ремесла и возвратом к этим конвенциям, признает первый временной закон авангарда — необратимость, и не признает второй — возвратное действие. Множество художников нашли бы себе место в этой антимодернистской истории, но самые значительные живописцы после Дюшана, как, например, Рихтер или Райман, оказались бы выброшены за ее пределы именем амнезического авангардизма.
Сверхузкое