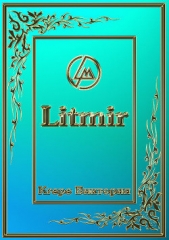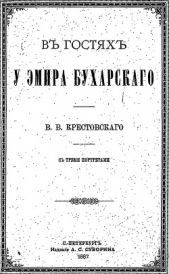Рубин эмира бухарского

Рубин эмира бухарского читать книгу онлайн
Необыкновенные и увлекательные приключения, описанные в романе М.Казанина «Рубин эмира бухарского», происходят в первые годы революции. Повествование ведется от лица главного героя, которому удается устроиться в эшелоне, идущем из Петрограда в Среднюю Азию. Этот малопрактичный и несколько отвеленный молодой человек 22 лет интересуется главным образом историей и литературой Востока и мечтает пробраться в Индию. Но неожиданно вокруг него разыгрываются события, которые не дают ему остаться в стороне, и он становится активным участником этих событий. В них переплетаются и история с пропавшим рубином, и восстание басмачей, и вражеские шпионы, и победоносная борьба за укрепление Советской власти на далекой окрание. В ходе этой борьбы формируется и закаляется характер героя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да приказ.
— Какой приказ?
— О назначении тебя ученым секретарем археологической экспедиции.
Меня как в грудь ударило: я был не одинок, обо мне думали, я был нужен. И тут, перед всеми, я расплакался. Я был настолько слаб, что не имел сил сдержаться. Я натянул поверх головы одеяло. Все, не говоря ни слова, вышли.
Глава III
НА ГОЛУБОМ ОЗЕРЕ
Меня увезли в больницу, где я пролежал еще неделю. Раза два ко мне приезжал Рустам, каждый раз привозил какой-нибудь гостинец — обычно изюм, прошлогодний сушеный урюк, миндаль, орехи, тутовые ягоды, которые мы тут же в саду весело поедали.
Менее приятным человеком в больнице была Юля. Нас с Катей не удивляло, когда после различных предварительных заходов она начинала забрасывать беглые и как бы невинные вопросы про экспедицию, про Листера, про то, кого мы знаем в Москве и здесь, в Фергане, и не раз про Бориса Ратаевского. Мы с Катей отвечали общими фразами, а когда она уходила, молча переглядывались.
На восьмой или девятый день я переехал в город к Паше. Настало время выезжать на место раскопок. Это связано было с хлопотами по учреждениям, с добыванием всяческого имущества, транспорта, пропусков, с разочарованиями и руготней, — и во всей этой суматохе, в этой, по существу, наинужнейшей и наинеотложнейшей работе не было человека более бесполезного и лишнего, чем я. Когда я пытался задавать какие-либо вопросы, то только дискредитировал себя. Всем делалась ясной моя наивность и никчемность в практических и хозяйственных делах.
Еще сильнее я боялся того, что оскандалюсь на весь мир как ученый секретарь. Ну какой я ученый секретарь, да еще археологической экспедиции, да еще по Ближнему Востоку? Мои товарищи в Петрограде хохотали бы до упаду по этому поводу, или, что еще хуже, сочли бы меня выскочкой и самозванцем. Я боялся и знал, что провалюсь, как только мне зададут сколько-нибудь серьезный вопрос по истории или географии мусульманского мира, и тогда раздастся крик: «Как это у него хватило наглости взяться за такую работу?» Я высказывал свои страхи и опасения Листеру (Толмачев был в отъезде) и не раз просил освободить меня от этой работы и назначить младшим помощником третьего гробокопателя, что вполне соответствовало бы моим способностям и опыту, но он только улыбался в ответ и отделывался такими фразами, как «научитесь», или «не боги горшки обжигают», или «общая подготовка у вас есть, остальное приложится», или еще более загадочными: «Не мудрите, те, кто назначали, тоже кое-что кумекают».
Раза два я ходил на площадь с чайханами в неосознанной надежде снова видеть Файзуллу и отвести душу в беседе о Востоке. Не то чтобы я чувствовал к Файзулле особую симпатию или мог рассчитывать на понимание тонкостей индийской поэзии, но все же он был отголоском драгоценного для меня Востока, и с ним я в какой-то мере оживал. Но Файзуллы не было, а когда я пробовал заговаривать на хинди или просто заводить разговор на индийские темы с другими узбеками, я натыкался на недоумение и вскоре убедился, что знание хинди, а также поездки в Индию были для тогдашних туркестанцев величайшей редкостью...
Экипировкой и сборами экспедиции занимался Листер; Толмачев, как я уже говорил, на третий день уехал в Самарканд. По поручению Академии наук он должен был руководить постановкой раскопок в большом масштабе, в нескольких местах сразу.
Паша запирался у себя, иногда же выходил и принимал участие в сборах. Как обычно, он бывал молчалив, и, за что бы он ни принимался, все у него спорилось. Если что-нибудь делалось не так, он брался и делал сам или, выпрямившись, глядел с высоты своего роста, прямо и холодно, не говоря ни слова, на виновника какого-либо упущения или неполадок. Где он, молодой человек моих лет, усвоил эту манеру, я не знаю, но действовала она безошибочно.
Экспедиция обогатилась еще несколькими сотрудниками. Из Ташкента приехал Соснов, сопровождавший нас в Туркестан в качестве коменданта эшелона. Оказалось, что за время поездки он подружился с Листером, и тот уговорил его задержаться на лето в Туркестане на работе в экспедиции. Появилось еще трое мужчин — Савостин, Федоров и Феоктистов, крепких, ширококостных сибиряков, очень здоровых физически, шутя переносивших шкафы, сундуки, палатки, охапки лопат. Больше всего эти три мушкетера (так мы их назвали) походили на красных курсантов, которых я знавал в Петрограде; у них было несокрушимое здоровье, военная выправка и профессиональная немногословность. Неприятно было узнать, что они служили в Сибири у Колчака, но, быть может, их насильственно мобилизовали. Все трое знали обиходные слова по-узбекски достаточно, чтобы сговариваться и давать беглые распоряжения, тогда как я сам удивлялся тому, какие малые успехи я делал в изучении языка, хотя и считал себя лингвистом; язык как-то не лез мне в голову. Состав экспедиции пополнился тремя десятками рабочих — узбеков и таджиков — в поношенных или даже рваных халатах, по всем признакам бедных, неустроенных людей.
Я мало разбирался в том, как экспедиция собиралась работать, а застенчивость мешала расспрашивать других. Да и притом, если уж честно говорить, в глубине души я ни капли не интересовался ни экспедицией, ни ее составом, ни даже ее целями — мои мысли были все еще заняты своим, и я не в силах был оставить тот первоначальный план. Хотя я был тронут до слез неожиданным вниманием к себе, хотя оно если и не изгладило, то нейтрализовало обиду, полученную в горсовете, расстаться со старой мечтой, в которую я вложил всего себя, я не мог. Я твердо решил, как только выдастся случай, завязать связи со всеми возможными организациями и добиться, чтобы меня послали за границу.
Оставаться же совершенно равнодушным к экзотической обстановке вокруг оказалось тоже невозможно. Почти против моей воли до меня доходили черты обаятельности и неповторимости того Востока, на который я не хотел смотреть: и тысячелетняя мудрость, и поэтичность, и благородство манер, распространенных в простом народе, и художественная одаренность, находящая себе выражение в самых незначительных предметах обихода, вкус и такт в отношениях между людьми. Я замечал, что даже названия отдельных уголков этого мира начинали звучать для меня неповторимой музыкой: сказочная благородная Бухара с ее тысячью мечетей, минаретов и медресе; Самарканд — перекресток «шелковых дорог», в течение многих столетий культурный светоч Центральной Азии; таинственная, затерянная в песках в низовьях Аму-Дарьи белая Хива; мутный и бурливый Пяндж, по другую сторону которого находятся эти фантомы нашего детства — Памир, Гиндукуш, Афганистан, — отделяющие нас от полной тайн Индии.
Как питомец «двенадцати коллегий» и книжный червь, я, конечно, не мог обойтись без книг. По совету Листера, я разыскал в Фергане помещение, где была свалена библиотека дышавшего в то время на ладан филиала Русского географического общества.
Навстречу мне вышел небольшого роста пожилой человек в поношенном пиджаке и не по росту больших брюках. Он был суетлив, нервен, и склеенное в нескольких местах пенсне поминутно спадало с его носа. Вдобавок к этому он еще и заикался.
Заика в пенсне оказался библиотекарем. Фамилия его была Лишкин. Он вначале очень несочувственно отнесся к моему желанию познакомиться с библиотекой, но, когда я назвал некоторые интересовавшие меня книги, глаза его перестали бегать, он несколько секунд безмолвно смотрел на меня, а потом пошел и открыл сарай с книгами, откуда я стал без стеснения их брать.
Это было интересно. До тех пор я стоял перед Туркестаном, как нищий перед запертой дверью. Теперь в моих руках была связка ключей. Я жадно читал «Туркестанский край» Масальского и немало дивился этой совершенно энциклопедической книге. Потом пошли Бартольд и Наливкин, Вамбери и Логофет, Федченко и Мушкетов и другие упоительные и увлекательные книги о Средней Азии и мусульманском мире. Зато, как назло, достаточно хорошей карты Туркестана и в особенности интересовавшей меня приграничной зоны я найти не мог.