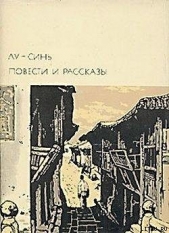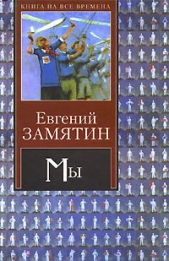Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
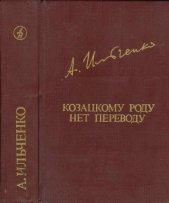
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Михайлик поглядывал на Прудивуса с откровенным вопросом, и тому пришлось кое-что объяснить.
— Вспомню нашу Академию, сердце болит, — заговорил Прудивус. — О кручах Днепра вспомню… о книгах…
— Он там, вишь, ученую книгу сочиняет про Адама и Еву, — насмешливо сказал Пришейкобылехвост.
— Боже, боже, что ученый может! — почтительно вздохнула матинка.
— О чем же ты свою книгу пишешь? — допытывался Михайлик.
— О познании добра и зла, — ответил Прудивус. — О первом поте Адама, о Каине с Авелем и о первой человеческой крови, пролитой на земле. О победе жизни над смертью…
— Над кем? — удивленно спросила, блеснув косоватыми желтыми глазами, прекрасными в своем неуемном горении, Огонь-Молодица. — Над кем победа?
— Над смертью, — повторил Прудивус.
— Всегда и везде… — тихо заговорила шинкарка, и что-то зловещее зазвучало в ее певучем голосе, так что все обернулись к ней. — Всегда и всюду побеждает… смерть!
— Ложь! — воскликнул Михайлик, даже пустив петуха своим мальчишеским басом, и, пьянея впервые в жизни, пальцем погрозил шинкарке. — Ложь ведь? — спросил он у Прудивуса.
А тот, человек ученый, сказал:
— А как же! — и спросил у шинкарки: — Живых существ, моя хищная кралечка, рождается больше, нежели их успевает прибрать пани Смерть? Ну? Ну?
— Не ведаю, — вдруг остывая, пожала плечами шинкарка и вернулась с наймичками к своему сложному хозяйству: мыла посуду, гасила в опустевших углах свечи, выволакивала на улицу пьяных, храпевших под столами. — Не ведаю, — бормотала Настя Певная, — сколько рождается, сколько умирает. — И шинкарочка потащила за ноги пьянехонького Панька Полторарацкого, а он, вытягиваясь, словно становился длиннее в ее руках.
— Куда ты меня тащишь? — разом проснувшись, встал на колени, потом поднялся на неверные ноги рыжий Панько. — Я ж тебе сказал: буду ночевать тут! С тобою буду ночевать!
— Побеждает жизнь, как видите! — потешно развел руками Иван Покиван.
— Ежели это свинство ты называешь жизнью! — угрюмо повела бровью Настя-Одарка и с неожиданной ухмылкой обратилась к Михайлику: — Правда, мой хлопчик?
— Пер-р-р-реночую-таки с этой шлендр-р-рой! — по-диаконски загорланил Полторарацкий, длинный, краснорожий и рыжий, и впрямь-таки похожий на полтора рака, только что сваренного в соленой воде людских страстей.
А коваль Михайлик не очень уважительно ответил Чужой Молодице:
— Я свинства не люблю! Но… ужли это не свинство: пьяницу из шинка тащит молодица, которая сама же его напоила? Тьфу! Разве не противно?!
— И тут жизнь побеждает! — захохотал Покиван.
— Жизнь? — спросила сбитая с толку Настя-Дарина. — Почему жизнь?
— А потому, что сегодня сей хлопец победил меня на подмостках. Я ж там был Смерть, а он — Жизнь!
— Глупая жизнь и глупая смерть! — гневно сверкнула желтым оком шинкарка. — Разве такой бывает смерть? — с угрюмым презрением спросила она, пренебрежительно кивнув на вертуна.
— Какой же она бывает? — спросил Михайлик.
— Какой бывает смерть, — рассудительно молвил Прудивус, — никому не ведомо: кто из живых ее видел? Только те, что умирали и умерли. Так вот…
— Сам ты ее видел уже тысячи раз, — на опасных низах своего дразнящего голоса произнесла Настя-Дарина. — Ты встречаешь ее повсюду, только не знаешь, что это как раз она, твоя смерть. От бога дана, что и жена! А порой еще и желаннее любимой женушки, ибо только объятия смерти могут освободить мужа из объятий венчанной жены!
— Ух, ух, не люби двух! — с обычным лицедейским гаерством поклонился Прудивус, хотел еще добавить что-то смешное, да поперхнулся и закашлялся, даже чуть не задохнулся, и на миг ему почудилось, будто сама смерть сейчас совсем близко заглянула ему в глаза, он даже за сердце схватился, и шинкарке пришлось быстренько подать ему кружку горилки.
— Доболтался! — повела плечом Огонь-Молодица.
— Ай-ай! — продолжал пьяненький Покиван. — Все видели нынче, что я от него удирал, от Михайлика, и что он меня, то есть панну Смерть, победил, одолел, посрамил, загнал на виселицу. Все видели сегодня на базаре, как Жизнь побеждает битую позором Смерть! — И он, препотешно протянув свою гибкую руку, указал на Михайлика. — Вот она, Жизнь!
— Этакая желторотая?! — съязвила Настя Певная.
— Хорошо сказано! — захохотал Прудивус. — Желторотая жизнь! Она-то молоденькая!.. Смерть стареет, а жизнь молодеет, моя пригожая и прехорошая. И представь себе, Настуся: вот он — Жизнь, а ты, к примеру, Смерть…
— Думай, что говоришь! — с неожиданной злостью крикнула Настя Певная.
— Я же — к примеру! Ты, шальная Дарина, расскажи-ка мне: как ты такого сокола… коли б ты была Смертью в нашей комедии… как бы ты смогла его поймать?
— Я ль не привлекательна? — жеманясь, спросила Настя-Дарина.
Чужая Молодица схватила Михайлика за руки и встала так близко, что тот всем телом почувствовал биение ее сердца, а Явдоха вскрикнула, напуганная чем-то таким непонятным и жутким, что сжало грудь:
— Пусти, ведьма!
Но Настя-Дарина и бровью не повела.
— Я ль не приманчива? — снова, красуясь, спросила она Михайлика.
— Приманчива, — повел широким плечом молоденький богатырь.
— Хороша?
— На взгляд… хороша.
— Слыхали? — победоносно сверкнула глазами Дарина. — От меня еще никто и никогда не отказывался! — И Огонь-Молодица спросила у парубка — Только на взгляд и хороша? А дальше?
— Одним глазам я никогда не верю.
— А ты пощупай…
— Михайло! — остерегая, крикнула матинка.
— Я и рукам не верю, — ответил хлопец.
— А ты поцелуй! — вскрикнула Огонь-Молодица.
— Э-э, нет! — оттопырил губу Михайлик. — Не верю и губам.
— Чему ж ты веришь? — вспыхнула шинкарка.
— Сердцу.
— Сердце ж — слепое! — простонала Огонь-Молодица. — Хоть, но правде говоря, и сердце у меня… — и быстро подставила хлопцу округлую грудь. — Послушай, как бьется! Ты ухом прильни.
— Не могу, — ответил парубок.
— Дай руку!
— Не хочу! — и добавил, обдумывая каждое слово:
И все живое и не смертельно пьяное, что было в тот миг в шинке, захохотало.
— Одна, одна! — одобрительно закричали все.
— И снова, гляди, побеждает Жизнь! — радостно крикнул Иван Покиван.
— Жизнь без любви ничего не стоит! — убежденно воскликнул Кохайлик, шваркнул об пол чарку, только осколки разлетелись, как брызги с гребня днепровской волны, и быстрым шагом подался к двери.
Матинка поспешила за ним.
За нею — спудеи.
Встали поляки и сербы, все, кто еще способен был передвигать ноги после угощения Михайлика.
А шинкарочка Настя Певная смотрела им вслед, и взгляд ее теперь, когда на нее никто не глядел, был страшным, зловещим, и левая щека ее подергивалась от затаенной злобы и пылала таким огнем, словно по ней кто-то ударил.
Пнув ножкой, обутой в красный сафьяновый сапожок, долговязого Панька Полторарацкого, который снова очутился под столом, она вернулась к своему делу, к посуде, но свечек возле стойки не гасила: там, не слыша острых пререканий о жизни и смерти, что-то писал и писал ученый гуцул Гнат Романюк, и его бледная рука становилась еще бледнее, когда он касался ею загорелого чела, иссеченного всеми ветрами Европы.
Он мысленно вникал во что-то, записывал и снова замирал в раздумье.
А Чужая Молодица, чуть кося глазами, ходила вокруг него на цыпочках.
Свечек так и не гасила, хоть уже вставало ясное воскресное утро, раннее утро июня.
Из-за двери поглядывала на пана Романюка, седого и мудрого, милая цыганочка Марьяна. Ей он зачем-то вдруг понадобился.
Она ждала, когда он выйдет из шинка.
Кусала в нетерпении губы, отчего они становились еще жарче и вдруг вспыхнули прекрасным цветком в первом луче восходящего солнца.