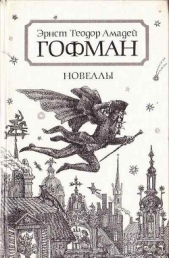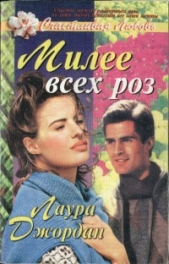Гладиаторы
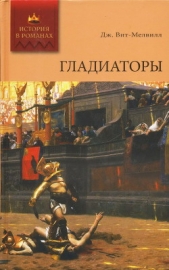
Гладиаторы читать книгу онлайн
Джордж Джон Вит-Мелвилл (1821–1878) — известный шотландский романист; солдат, спортсмен и плодовитый автор викторианской эпохи, знаменитый своими спортивными, социальными и историческими романами, книгами об охоте. Являясь одним из авторитетнейших экспертов XIX столетия по выездке, он написал ценную работу об искусстве верховой езды («Верхом на воспоминаниях»), а также выпустил незабываемый поэтический сборник «Стихи и Песни». Его книги с их печатью подлинности, живостью, романтическим очарованием и рыцарскими идеалами привлекали внимание многих читателей, среди которых было немало любителей спорта. Писатель погиб в результате несчастного случая на охоте.
В романе «Гладиаторы», публикуемом в этом томе, отражен интереснейший период истории — противостояние Рима и Иудеи. На фоне полного разложения всех слоев римского общества, где царят порок, суеверия и грубая сила, автор умело, с несомненным знанием эпохи и верностью историческим фактам описывает нравы и обычаи гладиаторской «семьи», любуясь физической силой, отвагой и стоицизмом ее представителей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для солдата это было роскошное жилище, украшенное военными трофеями, дорогими шалями, золотыми и серебряными кубками и другими драгоценными предметами, расставленными там и сям. Здесь была даже фарфоровая ваза, наполненная свежими цветами и поставленная между двумя сосудами с вином, а блестящее зеркало с изящным гребнем, прислоненным к его подпорке, свидетельствовало о том, что хозяин особенно тщательно заботится о своей наружности, или, скорее, о том, что в палатке, за ярко-красной занавеской, скрывавшей другое отделение, находится женщина. Отставив зеркало и бросившись на ложе, покрытое леопардовой шкурой, Гиппий поставил на землю свою тяжелую каску и гневным тоном спросил кубок вина. После вторичного требования красная занавеска раздвинулась, и перед ним явилась женщина.
Бледная, надменная и полная самообладания, неукротимая и сохраняющая свой вызывающий вид даже во время унижения, Валерия в самом падении, казалось, сохраняла свое превосходство. И перед этим человеком, которого она никогда не любила, но для которого в минуту безумия пожертвовала всем, она остановилась со спокойной осанкой, как госпожа перед рабом.
Красота ее не уменьшилась, хотя изменила свой характер и сделалась более суровой и холодной, чем прежде. Она казалась менее женственной, но более почтенной и благородной. Правда, глаза ее не глядели так любовно и весело, что когда-то составляло их величайшую прелесть, но они все еще были так же живы и обворожительны. Черты лица и ясно обрисовывающиеся формы приобрели суровое, величественное достоинство вместо миловидной и изящной девической грации. В величественной одежде сказывалась восточная пышность, которая очень шла к ее красоте.
Когда Валерия покинула Рим, чтобы разделить судьбу гладиатора, она не могла даже оправдывать свое безумие ослеплением. Она знала, что покидает друзей, богатство, положение, все жизненные преимущества ради чего-то такого, что имело для нее мало значения. Она считала себя совершенно отчаявшейся, павшей, забывшей о своей женской роли. Это было для нее возмездием за то, что она не могла отрешиться от своей женской натуры и заглушить тот голос, какой не может подавить в своем сердце никакая женщина.
Несколько времени — может быть, благодаря перемене места, путешествию, возбуждению от сделанного ею безрассудства, решению жить по собственной воле и открыто делать вызов всем — она как бы не сознавала своего несчастия. Иногда ей приходило в голову одеваться в латы и одежду гладиаторов, и среди «распущенного легиона» говорили даже, что она билась в строю не в одной отчаянной попытке взять город. Правда, что вне шатра она никогда не показывалась в женском платье, какое носила в палатке. Тит не преминул бы заметить это резкое оскорбление дисциплины лагеря, и не один храбрый гладиатор не без волнения сообщал потихоньку своему товарищу, что в такой шайке, как их, она могла бы не быть замеченной и не покидать их. Но это был только шепот, так как гладиаторы слишком хорошо знали своего начальника, чтобы открыто осуждать его поведение или пытаться узнать то, что он хотел держать в тайне.
Тем не менее, отклонения, столь враждебные всем инстинктам женской натуры, не замедлили вызвать чувство оскорбления в знатной римской даме, и так как осада, со своими удачами и неудачами, длилась все дольше и дольше, то бремя, под которое она добровольно подставила свою белую, гордую шею, становилось слишком тяжелым. Ей до отвращения надоел длинный ряд белых палаток, палящее небо Сирии, звон оружия, передвижения войск, постоянный звук рожка, вечная смена караулов и однообразная, надоедливая рутина лагеря. Она ненавидела знойную палатку, с ее душным воздухом и теснотою, и ко всему этому начинала ненавидеть того человека, с которым разделяла это жилище и его неудобства.
Не сказав ни слова, она протянула ему кубок вина. Стоя перед ним, в своей холодной, презрительной красоте, она не говорила с ним ни взором, ни жестом. Казалось, мысленно она была за сто миль отсюда и не подозревала о его присутствии.
Он вспоминал о том времени, когда все было совсем по-другому. Он вспоминал, как в начале их знакомства его приход вызывал улыбку удовольствия на ее устах и дружеский взор ее глаз. Может быть, это делалось только напоказ, но, во всяком случае, это было так, и что касается его, то он чувствовал, что эта женщина владела им настолько, насколько могла владеть им. Эта холодность и презрение были для него тяжелы. Он был уязвлен и вследствие своего жестокого и неуравновешенного характера снова пришел в раздражение.
Осушив кубок, он отбросил его далеко от себя гневным движением. Золотая чаша покатилась по полу шатра. Она не показала виду, что хочет поднять ее и снова подать ему.
Гиппий с яростью посмотрел на нее, и его глаза встретили долгий и презрительный взгляд Валерии, которого он почти испугался, так как он леденил его сердце. У этого огрубевшего, развратного, по горло погруженного в жестокость и преступление человека было слабое место, в которое она могла когда угодно наносить ему раны, так как он любил бы ее, если бы она того захотела.
— Меня очень утомила эта осада, — сказал он, откидываясь на ложе с деланым хладнокровием, — утомила эта ежедневная рутина, бесконечные совещания, знойный климат и, ко всему, этот удушливый воздух, в котором человек едва может дышать. О, если бы боги дали мне никогда не видеть этой проклятой палатки и ничего заключающегося в ней!
— Тебе это не могло надоесть так, как мне, — проговорила она тем же раздражавшим его холодным и презрительным тоном.
— Для чего же ты шла сюда? — спросил он с горькой усмешкой. — Никому не нужна изнеженная и изысканная женщина в солдатской палатке, и наверное тебя никто не просил приходить сюда.
Она слегка вздохнула, как будто что-то задело ее за живое. Но она тотчас же овладела собой и спокойно, презрительно отвечала:
— Милые слова и благородные мысли, во всех отношениях! Именно этого я и должна была бы ожидать от гладиатора.
— Было время, когда ты крепко любила «семью»! — с гневом воскликнул он и, смягченный воспоминанием о том времени, прибавил более мягким тоном: — Валерия, зачем ты так любишь ссориться со мной? Не то было, когда я приносил тебе тупые мечи и рапиры к твоему портику и лез изо всех сил, чтобы сделать из тебя лучшую фехтовальщицу в Риме, где ты была самой красивой женщиной. То были счастливые дни! То же было бы и теперь, если б у тебя было сколько-нибудь здравого смысла. Разве ты не можешь понять, кому из нас двоих нужно идти на уступку, когда мы ссоримся? Какая опора остается тебе, кроме меня?
Ему следовало бы остановиться на нежном воспоминании. Доводы, особенно если в них есть хотя бы тень правды, являются для гневной женщины тем же, чем бандерилья [40] для иберийского быка. Ее блеск скорее раздражает его, чем пугает. Чем глубже колет его острый конец, тем яростнее мечется животное во все стороны, но тем яростнее и упрямее продолжает нападение. Всего более раздражала Валерию и увеличивала ее гнев мысль о том, что она нуждается в гладиаторе.
Холодные глаза ее метали молнии, но она не хотела доставить ему удовольствие и показать, что он возбуждает ее гнев. И она сдерживалась, готовая разразиться. Если бы она любила его, она могла бы убить его в подобном состоянии духа.
— Спасибо тебе за то, что ты обо мне вспомнил, — сказала она с горечью. — Неудивительно, что женщина из рода Муциев иногда забывает свои обязанности по отношению к Гиппию, отставному гладиатору. Патриций, может быть, смотрел бы на это благосклоннее, но я не имею права упрекать начальника бойцов за его плебейское происхождение и воспитание.
— Клянусь Геркулесом! Это уже слишком! — воскликнул он, выпрямляясь на своем ложе и скрежеща зубами от ярости. — Как? Ты упрекаешь меня за мое происхождение? Ты поносишь меня за то, что я не жеманюсь, не имею белых рук и слова не тянутся из моих уст, как мутное вино! Ты, изящная женщина, знаменитая красавица, уважаемая патрицианка, подъезд которой был вечно загроможден золочеными повозками, а лектика окружена всеми молодыми Нарциссами Рима, пошла искать своих любовников в амфитеатр! И там, осмотрев взглядом знатока формы, силу и ловкость обнаженных атлетов, ты не нашла ничего лучшего по своему вкусу, как старого Гиппия, измученного усталостью, грубого, резкого и хотя с виду самого невзрачного, но самого сильного…