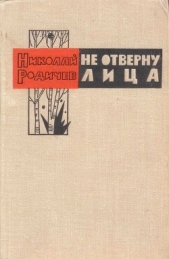Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам

Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам читать книгу онлайн
У него отняли все – близких, родину, возлюбленную, друзей. Сердце его зачерствело, обратилось в камень, душа сгорела, подернулась пеплом. Единственное, что осталось в жизни, – это воспоминания. О прошлом, невозможном, улетевшем счастье. О трепетной, сладостно-мучительной любви, над которой не властно время. И которую уже не вернуть…
Однако неисповедимы пути господни. Ему еще предстоит встретиться с любимой. Волей рока, много лет спустя, на родной стороне. С тем, чтобы расстаться уже навсегда…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот только радости не было. В Париже, при деньгах, здоровый и благополучный, он отчаянно хандрил. Мрачно бродил по древним улицам, помнящим еще христианнейших королей, сонно смотрел на воды Сены, струящиеся сквозь века, а в голове его все крутилась мысль, тяжелая, словно мельничный жернов, – и черта ли собачьего ему здесь?
Не помогали ни кабаки, ни женщины, ни зрелища. Все какое-то пресное, неестественное, преисполненное фальши, вызывающее тоску, зевоту и усиливающее одиночество. Казалось бы, тишь да гладь, а что-то укачало Граевского на палубе Лютеции[1], до судорог, до колик, до кровавой рвоты. Не морская болезнь. И не французская[2].
Граевский глянул в зеркало, невесело усмехнувшись, подмигнул крепкому малому с набриолиненной ниточкой усов и зачесанными по последней моде волосами и раскачивающейся походкой вышел в коридор.
Широкая мраморная лестница привела его в гостиничный холл, великолепный, устланный старинными коврами. Там царила аура торжественной деловитости. Близ стеклянных крутящихся дверей медленно прохаживался человек в черном фраке, шелковых чулках и лакированных туфлях с пряжками, на груди его покоилась тяжеленная серебряная цепь. Это был главный швейцар, живое воплощение традиций, респектабельности и незыблемости устоев. Держался он с величественностью верховного жреца.
Граевский закурил, глянул косо наметанным глазом на дамочку в золотом, обшитом страусовыми перьями «сорти де баль»[1], оценивающе хмыкнул – неясно, что за птица. Перекатил папироску в угол рта и, не спеша, пошел в ресторан.
Это было просторное, стилизованное под зимний сад помещение. На сцене, вяло пританцовывая, подражала Мистангет[2] тощая этуаль, хлопали бутылочные пробки, весело щебетали женщины, под звуки музыки между блюд велись деловые разговоры. Публика подобралась нетерпеливая, не теряющая драгоценного времени даже за ужином.
– Прошу. – Мэтр усадил Граевского в угол, под лапчатую пальму, тут же подскочил гарсон, с улыбочкой, с чудовищной почтительностью принял заказ: спаржевый салат, омар, запеченный с трюфелями, седло барана и бутылку белого Пуи. Самого сухого, конечно.
Ужин обеспеченных, осознающих всю быстротечность бытия людей.
«Горчицей бы тебя вымазать, сразу бы ожила». Бросив взгляд на сцену, Граевский зевнул, устроился поудобнее в кресле и со скучающим видом принялся рассматривать женщин. Чувство голода пока заглушало в нем все прочие.
Женщины были хороши, на все вкусы и кошельки. Шелк скупо прикрывал пикантность форм, матово отсвечивали плечи, искрясь, переливались драгоценности, поблескивали от шампанского глаза. Синие – англосаксонские, темные, как ночь, – южно-американские, лиловые – французские. Молоденькие прельщали свежестью, роскошью цветущих тел, пожилые приправляли, словно соусом, блекнущую красоту экстравагантностью нарядов.
С женщинами дело обстояло благополучно. А вот мужчины…
Откуда, из каких буреломов повылезали после войны эти жирные негодяи с короткими волосатыми пальцами, унизанными перстнями? Суетливые глазки их воровато шарили по сторонам, а цепкие руки плели из воздуха деньги. Это с их подачи мир вывернулся наизнанку и превратился в помойку, в которой не осталось ни чести, ни любви, ни дружбы. Ничего святого. Только деньги, деньги, деньги…
Принесли салат, вино и омара. Развернув на коленях салфетку, Граевский приступил к еде, поглядывая вокруг с тихой ненавистью – чертовы спекулянты, торгаши, разжирели на войне…
Хрипатая певичка между тем вильнула бедрами, послала воздушный поцелуй и скрылась за кулисами. Занавес, медленно опустившись, вновь поднялся, и сразу раздались крики, жидкие аплодисменты – на сцене появился американский джаз-банд с настоящими неграми. Застучали деревянные палочки, взвыл саксофон, и веселые людоеды начали лупить в тазы, реветь в автомобильные рожки, громыхать тарелками и бить в турецкий барабан. Шум поднялся адский, до печенок, до самого нутра пробирали сумасшедшие синкопы, в мозг, в самый мозжечок, били жизнерадостные взвизги скрипок.
Публика, отбросив чопорность, тут же повыскакивала из-за столов и самозабвенно, с какой-то исступленной веселостью пустилась в пляс. Казалось, всех поразило массовое безумие.
«Ну, и дерьмо, – с кислым видом, будто запивал горькую пилюлю, Граевский отхлебнул вина, – вначале Америка пустила всех по миру, а теперь на костях пятнадцати миллионов заставляет плясать бешеный фокстрот».
Он мрачно съел баранину, плюнув на все приличия, корочкой подобрал соус и движением головы подозвал официанта:
– Алло, гарсон. Мирабель, черный кофе и коньяк.
Быстро покончил с десертом, расплатился, строго по счету, ни одного су на чай, и, не дожидаясь варьете, нестерпимо пикантного, на грани скабрезности, отправился к себе – все одно, ничего нового уже не увидишь. Один черт, отчаянная скука…
В номере Граевский переоделся в шелковую полосатую пижаму, в какой обычно баб принимают, взялся было за муру про Фантомаса, но через секунду резко отшвырнул книгу и, закурив, вышел на балкон.
Вечер был теплый, парной, напоенный влажной истомой. Только что прошел дождь, и снизу, с Елисейских полей, слышался запах мокрых листьев, отработанного сгоревшего бензина, терпкой, пробуждающей древние инстинкты земляной прели. Тихо шелестели каштаны, ветер был нежен, словно пальцы влюбленной женщины. В дымке над деревьями светился купол Гранд-салона, горели, глядя в небо, окна мансард, серые дома застыли исполинами, выпуклые крыши их чуть угадывались в дрожащем воздухе. Город казался призрачным, обманным, словно тонущим в лиловой пелене.
Французов Граевский не любил – лягушатники, покажешь им франк, радуются, скалят гнилые зубы. А чтобы помочь по-человечески – взглянут на тебя, будто сроду такого сукиного сына не видели, и на лицах у них изображается оскорбленная национальная гордость. Лизоблюдники, а кто вас на Марне спас? Мы, русские, дети скифов. Впрочем, соотечественников Граевский тоже не жаловал.
Профукали империю, просрали, выплеснулись пенной мутью на чужие берега и теперь опять за свое – пустые разговоры, политическая возня, партии, фракции, черт их разберет. Кадеты, эсеры, социал-демократы, мало им семнадцатого года. Приставки «де» на визитных карточках, распухшие от чувства личной значимости загадочные русские души. Тьфу! А генералы разводят кроликов, и княжеские дочки выходят на панель.
Огонек папиросы описал полукруг и с шипением затерялся среди мокрых листьев. Граевский в задумчивости вернулся в номер, затравленно, словно пума в клетке, прошелся по салону, глянул на каминные, с амурчиками, часы – стрелки, казалось, намертво приклеились к циферблату… Как же убить проклятое, тянущееся на манер гуттаперчи время?
С минуту он бесцельно стоял у стены, смотрел на шелковый, в форме юбочки балерины, абажур, потом вздохнул и нехотя позвонил в бюро обслуживания. Скоро дверь открылась, улыбающаяся девица принесла содовой и пикону, вытерла салфеткой запотевший сифон.
– Может, месье, желает еще чего-нибудь? Меня зовут Жанетта, я работаю до утра.
– Красивое имя, – одобрил Граевский, глянул на нее повнимательнее, словно барышник, выбирающий лошадь, – и редкое.
Так, ничего особенного, вздернутый, говорящий о легкомыслии нос, лживые глаза, бесцветные кудряшки волос. Фигура довольно топорная, широковатая в плечах, да и руки длинноваты. Зато уж форменная юбка обрезана выше некуда, до самого края хозяйского терпения, – понятно, полтора миллиона самцов убиты на войне, тут поневоле задерешь подол к коленкам. Кстати, костлявым и весьма неаппетитным.
– Я еще позвоню. – Граевский изобразил в улыбке плотоядность и щедрым, многообещающим жестом протянул девице луи. – Увидимся, маленькая.
В его голосе совсем не ощущалось страсти. Он потом долго сидел за сигарным столиком, прыскал в фужер с пиконом пенящуюся содовую, пил, немного и в меру, думал ни о чем, курил. Наконец время перевалило за полночь и пошло по новому кругу. Нужно было что-то делать, но что?
Спать не хотелось, видеть кого-либо тоже. Может быть, моцион? Где-нибудь в тишине, подальше от площади Пигаль, кишащей проститутками, сутенерами и искателями приключений, в сторонке от бульвара Клиши, где вертятся в сумасшедшем вихре крылья знаменитой мельницы «Мулен-Руж», головы девчонок в коротких юбках и паровые карусели, облепленные самодовольной сволочью?