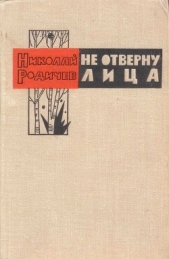Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам

Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам читать книгу онлайн
У него отняли все – близких, родину, возлюбленную, друзей. Сердце его зачерствело, обратилось в камень, душа сгорела, подернулась пеплом. Единственное, что осталось в жизни, – это воспоминания. О прошлом, невозможном, улетевшем счастье. О трепетной, сладостно-мучительной любви, над которой не властно время. И которую уже не вернуть…
Однако неисповедимы пути господни. Ему еще предстоит встретиться с любимой. Волей рока, много лет спустя, на родной стороне. С тем, чтобы расстаться уже навсегда…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его слезящиеся, чуть навыкате, глаза светились трусостью, жестокостью и нахальством, держался он самоуверенно и спокойно, как и подобает опытному, проверенному в деле палачу.
– А то мы не видели. – Петерс усмехнулся, посмотрел на Лациса, перевел взгляд на свиту: – А, товарищи?
Он обожал водить подчиненных в расстрельные подвалы, на «бойни», в камеры пыток – оценивал мимику и реакцию, фиксировал нюансы поведения, наблюдал за идеомоторикой и речью. На фоне крови и нечистот, вблизи от смерти и муки человек виден сразу, а слюнтяи, хлюпики, эстетствующие белоручки диктатуре пролетариата ни к чему. В накрахмаленных манжетах не свернешь шею мировой буржуазии.
Так что чекисты из окружения Петерса были людьми привычными. Невозмутимо поглядывали они и на полчища мух, и на запекшуюся кровь, и на стены, выщербленные пулями, внимали словесам начальства, кивали вежливо, почтительно и согласно. Кое-кто в душе соболезновал киевским коллегам, правда, про себя, не подавая виду, – в самом деле, работа адова, никаких условий. То ли дело просторные, специально приспособленные лубянские подвалы – с асфальтовыми полами, глубокими желобами и наклонными стоками. Впрочем, на то она и Москва, столица.
– Ладно, товарищи, время не ждет. – Заметив минимум настораживающего в поведении подчиненных, Петерс усмехнулся, удовлетворенно закурил и не спеша, чтобы не поскользнуться, двинулся на выход. Уже на прощание у машины он пожал Фаерману руку и, как бы говоря, что все в порядке, улыбнулся коротко, одними губами.
– А мухам, товарищ Михайлов, вы все-таки устройте последний и решительный бой, раздобудьте хлорки, что ли.
Заурчали двигатели, свита расселась по местам, конники бросили цигарки, взялись за поводья. Кортеж направился на улицу Елисаветинскую, в Уездную чрезвычайную комиссию. Она ничем не отличалась от губернской, разве что на «бойне» внимание гостей привлекла колода, на которой головы приговоренных разбивали ломом. Рядом была выкопана яма с крышкой, куда падал мозг при размозжении черепа, и ее удобное устройство свидетельствовало об изобретательности и вдумчивом подходе к делу. Во всем же остальном никакой изюминки и все те же полчища зеленых, безобразно жужжащих мух.
– Завтра же доставить две, нет, три подводы с хлорной известью. Раздать личному составу мухобойки. – Петерс со значением посмотрел на Лациса, потом на часы, затем снова на заместителя. – Я никому не позволю засиживать идею дизентерийными мухами. Ну, что там у нас по плану?
Честно говоря, ему уже надоело мотаться прямо с поезда по такой жаре. Хотелось есть, только на черта сдался этот хохляцкий борщ, жирный, горячий, с чесноком. Хорошо бы холодного кефирного супа, как готовят его в рижском кабачке «Лайма». На худой конец сойдет и русская окрошка, хотя, по большому счету, варварское хлебово, мешанина для свиней.
С Янисом надо поиграть в догонялки – вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф, паф, ой-ей-ей, умирает зайчик мой. А то изведет.
– Китайская «чрезвычайка». – Лацис чирканул что-то в блокнотике, с которым не расставался никогда, подмигнул с заговорщицким видом: – Азиатская экзотика, нечто особенное.
– Особенное? – В свите скептически хмыкнули, беззвучно, про себя, вежливо улыбнувшись, выразили интерес. – Да ну?
Что ж такого новенького можно придумать? Ведь, кажется, все уже испробовано, начиная с «измерения черепа»[1] и кончая клизмами из битого стекла. Интересно, интересно.
В китайской «чрезвычайке» высоких гостей встречали с размахом. Во дворе выстроилось в шеренгу все здешнее начальство, узкоглазое, раболепно улыбающееся, числом не менее взвода. Едва кортеж остановился, как самый главный китаец бросился к машине Лациса и, распахнув дверцу, принялся подобострастно кланяться:
– Сдравствуй, мандарина! Зиви долго, генерала!
Если он и притворялся, то по-азиатски тонко, ловко балансируя на грани фарса и искреннего изъявления верноподданических чувств.
«Ну и ну, – Геся вдруг криво усмехнулась и из-под ресниц покосилась на Зотова, – интересно, срисует или нет? А, морщится, значит, вспомнил. Не все еще мозги пропил». В радушном азиате она узнала Чен Ли, своего бывшего сослуживца с Гороховой. Но как же он изменился за год с небольшим! Если раньше был похож на улыбчивого зайца, то теперь больше походил на огромного, отъевшегося хомяка с лоснящимися жирными щеками. В гимнастерочке, перекрещенной ремнями, в галифе с леями, заправленными в сапоги со скрипом, при конвойной шашке, самовзводном нагане и больших наручных часах-браслетке. Цирк зверей дедушки Дурова, красный командир с желтой рожей!
А Чен Ли тем временем все продолжал радоваться – и Лацису, и Петерсу, и усатому водителю в крагах и очках.
– Сдравствуй, полководса! Сдравствуй, сафера!
Увидев Гесю с Зотовым, он восхищенно замер, выкатил вспотевшие глаза и, скаля гниль зубов, начал исходить на приторную медоточивую улыбку.
– Э-э-э, сдравствуй, командира! Э-э-э, сдравствуй, комиссара!
Петерс, настораживаясь, шевельнул бровями, Зотов, глядя в сторону, сдержанно кивнул, Геся с ухмылочкой незаметно подмигнула – здравствуй, здравствуй, хрен мордастый. Значит, не забыл, стервец, узнал, а ведь говорят, что для азиатов все европейцы на одно лицо. Вот тебе и дрессированный хомяк с самовзводным наганом, ишь какой спектакль устроил, балаган – в цирк ходить не надо, в духе Третьего Интернационала. Пламенный прием латышей китайцами на украинской земле в еврейском присутствии. Артист узкоглазый, тот еще Конфуций!
Ах, если бы только Геся знала, что Чен Ли был искренен, как наивная монашка на исповеди. Что нисколько не кривил душой, ну, может быть, чуть-чуть, крайне незначительно, меньше чем на йоту. Потому как всем сердцем прикипел к пролетарской революции, к ответственной своей работе и лично к большому доброму начальнику мандарину Лацису.
А как же не любить Чен Ли власть Советов, если у него теперь есть все, в сладком опиумном сне такого не увидишь. Женщины косяками, да не какие-нибудь там шлюхи, нет, крутобедрые, грудастые, красавицы, страстные и искушенные в любви. Застенчивые, заплаканные девственницы, подобные нераспустившимся цветкам, с телами бархатистыми и нежными, как персик. Надменные аристократки в надушенном белье, теряющие всю свою спесь после десятка шомполов, блондинки, брюнетки, молоденькие и в годах – любая согласится, только помани.
А жратва! А пшеничная адской крепости горилка! Это вам не рис вперемешку с червями, каким кормят в Цзиндэчжэньской тюрьме, и не мутный, словно старческая слеза, любительский самогон тетушки Кхе. Да, раздобрел, попер вширь на украинских харчах, взматерел Чен Ли.
Особо пришлись ему по вкусу борщи, крестьянские супы и рассольники, да не те рассольники, что варят в среднерусской полосе, когда в жиденьком бульоне скучно плещутся огурцы с перловкой, нет, настоящие малороссийские рассольники с почками, курятиной, гусятиной, бараниной, щедро сдобренные смальцем, густо забеленные сметаной, затейливо заправленные перцем, чесноком, укропом и прочими кулинарными вытребеньками. Такие, чтобы ложка стояла и было невозможно оттащить за уши, даже если бы и произрастали они на манер заячьих.
А пампушки, галушки, свиные котлеты, карп в кляре, буженина, вареники с вишней, со сметаной и медом. Да с охлажденным, заправленным корицей медовым взваром! Ох, хорошо жилось Чен Ли, в шелковых подштанниках ходил, чтобы вши не грызли его янг[1], на машине разъезжал, личный граммофон завел, вечерами слушал Шаляпина и Вертинского. Видел бы его дедушка Лин Бяо, которого проклятые империалисты скормили тигру[2]. Так что да здравствует советская власть, и сам бог велел униженно кланяться, подобострастно улыбаться, изображать неописуемую радость и восторг. Не грех и повториться:
– Сдравствуй, мандарина, сдравствуй, генерала, сдравствуй, секиста.
– Здравствуйте, товарищ Ли. – Лацис, улыбаясь, вылез из машины, подал азиату руку. – Да бросьте вы так кланяться, прошли проклятые времена.