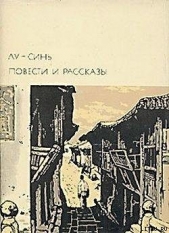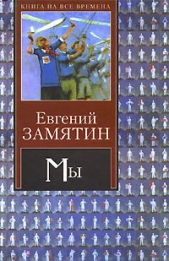Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
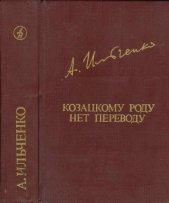
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Данило Пришейкобылехвост, сейчас только уразумев всю опасность коварной затеи Прудивуса и разом забыв свою роль, начал, как последний олух, просить прощенья у выставленного на всенародное осмеяние пана обозного:
— Пане Куча!
Обозный молчал, что каменная баба в степи.
— Вы не подумайте… — упавшим голосом домогался Данило.
Пан обозный только сопел.
— Я ж не хотел… ничего такого… супротив вас! Поверьте, пане Куча!
Обозный молчал.
— Это все — он, вот этот проклятый смутьян.
Пан обозный молчал, как то и полагается пану.
А у Данила шея стала еще тоньше и длиннее.
Нос тоже вытянулся, а кончик его зашевелился сам собой.
Добрым людям невмоготу было взирать на те два носищи: один толстый, спесиво задранный над яркой оттопыренной губой, а другой острый, заискивающий и виноватый — оба носа такие разные, но в то же время похожие — на одинаково бледных и обрюзгших рожах… И, щадя душевные силы мирославцев, коим нужно было живыми и здоровыми до конца доглядеть представление, Прудивус подстегнул в себе Климка, и тот, постаравшись забыть, что ему тоже по-человечсски смешно, скорчив невозмутимо-равнодушную мину, повел дело дальше.
— Силенциум! Силенциум! — громко зашептал по-латыни спудей, обращаясь к двум Стецькам. — Вы слышите? Тсс! Вы слышите? Слышите?
— Что такое? — спросил, не опомнившись от холодного ужаса, Стецько-Данило.
— Скребется? А?
— Кто скребется?
— И шевелится будто?
— Что шевелится?
— И скулит. А? Слышишь?
— Кто ж таки скулит?
— Она же!
— Кто «она»?
И в тишине, снова пролетевшей над майданом, все услышали, как что-то и впрямь скребется и скулит, будто щенок.
— Что это? — спросил наконец и Стецько-Демид.
— Под макитрой что-то, — звонко прошептал Климко. — Тсс!
— Что — под макитрой? — сбитый с толку, спросил Пришейкобылехвост, хоть он и сам хорошо знал, что там скребется. — Что там?
— Я не знаю, что ты туда спрятал — передернул плечами Климко. — Ты ведь сам говорил, будто под макитрой — твоя… смерть?
— Да-да…
— Смерть? Или не смерть? — И Климко еще раз прислушался. — О! Опять… Слышишь?
— Слышу, — должен был признаться Пришейкобылехвост.
— И тебе… не страшно?
— Чего бы это?
— Она ведь просится! — И лицо Климка озарилось комическим ужасом.
— К-к-куда просится?
— К тебе… и к пану Куче! — И Прудивус, приблизясь на цыпочках к макитре, снова стал прислушиваться.
Но все было тихо.
Тогда он обернулся к пану обозному.
— Эй! — заревел он басом. — Пане обозный! — и добавил еще басистей: — Грядет! — и грянул уже на самых низах: — Твоя смерть! — и повторил нижайшей октавой, и было это страшно и смешно: — Смерррть!
Однако на окаменевшем лице обозного не дрогнул ни один мускул.
— Кайся во грехах своих, пане обозный!
— Кайся, пане Куча! — ненароком рявкнул басом и коваль Михайлик.
Тот только еще сильнее засопел, но не молвил ни слова.
И тут началось самое страшное.
Для пана обозного.
И самое смешное.
Для нас, для зрителей.
— Кайся, пане Куча! — повторил басищем и Прудивус. — Кайся, пане, кайся! — требовал озорник, допекая пана без огня. — Кайся на пороге пекла.
Бледная обрюзгшая рожа обозного начала помалу меняться в цвете, его щеки вдруг стали розовыми, как нежнейшие лепестки полевого цветка, который называется собачьей розой.
— Или ты в ад не хочешь? Хочется в рай?.. A-а, так и есть! Сердце с перцем, а душа с чесноком! Или, может, бог тебе все простит? А? Да отзовися ж, пан!
Но Куча, кипя злобой, осмотрительно молчал.
— Или, может, — продолжал Климко, — люди, может, неправду сказывают, будто взял ты немалые денежки за то, что женился на полюбовнице ясновельможного?
Пампушка-Стародупский так грозно сверкнул очами, аж чуб на Прудивусе задымился, но и тут обозный промолчал, только умыслы о мести, один другого страшнее и кровавее, пылали уже в его державной голове.
— Вишь, какой благодетель: все свечки съел, а глазами светит! — И снова спросил: — Стало быть, люди врут, пане Стародупский? Или ты — «витам импендере веро»? За правду отдашь жизнь?
— Не любит пан правды, как пес редьки! — отозвалась Явдоха.
— Иль, может, твоя новая женушка — гетману Однокрылу сестра? — допытывался далее Прудивус, изгибая брови, точно вопросительные знаки.
— Сестра из Остра! — глумливо ответили из толпы.
— Там и глазки, там и стан, не напрасно ж любил пан!
Пана Пампушку-Стародупского жалило каждое слово презрения и недоверия, которые, застукав пана Демида в такой тесноте, высказывал ему подвластный люд.
«Пешего сокола, — спесиво думал обозный, — и вороны клюют. Но и ты у меня, штукарь проклятый, за девятыми воротами залаешь!» — и пан Куча от злости даже упрел, и его лицо напоминало цветом уж не розовые лепестки собачьей мальвы, а скорее ту красно-желтую рыбу, соленого лосося, сальму, которую на мирославский базар привозили армяне или татары. Однако пан Куча-Стародупский молчал, разумея, что неосторожное слово может погубить его, ибо… когда народ плачет, с ним еще можно справиться, а уж коли смеется… то не дай бог!
— Так, выходит, вы с ясновельможным все-таки — родичи? — донимал его, шевеля усами, озорник Прудивус, этот зловредный черт, который никого на свете не боялся (кроме, пожалуй, законной жены своей, что недавно в Киеве, не угодив мужу ни телом, ни делом, померла спустя полгода после свадьбы — преставилась, царство ей небесное, как бы подтверждая грубую поповскую истину, будто жена мила бывает только дважды: когда впервые в хату вступает и когда ее из хаты выносят в последний раз). — Кем же все-таки вы, пане полковой обозный, доводитесь ныне ясновельможному полюбовнику своей законной жены? Черт козе — дядя?
Харя пана Пампушки стала теперь похожа на перезрелый мухомор, а потом обрела здоровый цвет сырой свинины, и казалось Михайлику, что вот-вот обозный взорвется, лопнет, распираемый невысказанными ругательствами и угрозами. Но тот, впиваясь ногтями в ладони, осмотрительно молчал и молчал: волк стоял, что овечка, не сказав ни словечка, чтоб… не вышла осечка!
— Иль, может, троюродному бугаю — свояк?
Однако пан обозный, багровея, что свекольный квас, крепко сжал зубы, аж челюсти заныли, но и на сей раз осмотрительно промолчал, чтобы отплатить потом Прудивусу и этой голытьбе, свиньям, черни, этим хамам, сразу отплатить в тысячу крат.
Однако лицедей, — а они всегда были совестью народа! — не унимался и говорил обо всем, чего требовал долг, словно горохом сыпал, и глумился над паном полковым обозным, который мог завтра же лишить его жизни, — глумился, как только хотел и мог, как ему велело отважное сердце, и то была опасная игра, опасная смертельно (ибо истинное искусство, как и любое другое оружие, штука опасная), и все он пану перед народом выложил, все, что знал, все, что ему подсказывала совесть художника, народного артиста: и то, что он барщину вводит в своих поместьях более и более тяжкую, и то, что он, запорожец бывший, чванится, величается, точно вошь чумацкая, перед простым людом (он там важен, где окошки малы), и что он, хоть и гремит война, пыжится даже перед козачеством, которое кровь свою проливает, и что богатеет он, невесть откуда загребая добро, и опять-таки — о его непостижимых отношениях с гетманом: не пан ли Куча, мол, выдал ему намедни Козака Мамая, коего не удалось гетманцам повесить лишь потому, что, вишь, не родился еще тот катюга, которому удалось бы навеки угомонить Козака Мамая, — и про все это Прудивус что ни скажет, как завяжет.
Вот почему Демид Пампушка-Куча-Стародупский аж побагровел, как свекла, посинел, словно пуп куриный, а то уже стал пепельно-голубым, что василек во ржи, и только тут смекнул Прудивус, что довел его до предела, и повел свою комедию дальше, к ее заранее предрешенному концу.
— Эй, вы, Стецьки! — пренебрежительно крикнул он Стецьку-Данилу и пану Куче-Стародупскому. — Постерегите-ка мою лисицу.