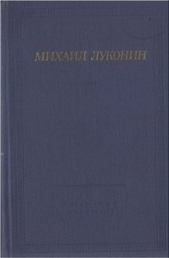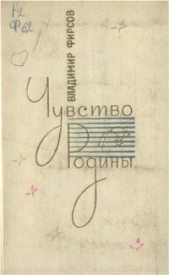А пряжка с якорем!
А ленты!
А полосатый воротник!
Я, навалясь на подоконник,
к стеклу нагретому приник.
Моряк стоит у нашей лавки
и нашей Груньке руку жмет.
«Скажу-скажу!
Скажу маманьке,
когда с собрания придет.
Ага, под ручку!
Вот так дело!
Ну, попадет тебе, постой!..»
А как сияет,
как сияет
на пряжке якорь золотой!
А вон и мама!
«Испугались!» —
шепчу я, радуясь беде,
и вижу, как дрожат их тени
в весенней разливной воде.
Идут в избу!
Втроем!
С маманей!
Я — с подоконника, бегом
на печку сразу,
весь — вниманье…
«Входите, что ж, весна кругом.
Натопчете? — смеется мама. —
Неважно, вымыть есть кому».
«Вот это да: идет в ботинках,
а мне — снимай,
в моем дому!»
Садится. Лавка заскрипела.
Он виден мне из-за трубы,
чужой, форсистый, белозубый, широкоплечий —
в пол-избы.
Фуражка на столе. Читаю:
«Каспийский ф…» — не разберу!
«Надолго?» — спрашивает мама.
«Совсем». И глянул на сестру.
А та потупилась.
«Постой-ка,
уйдет — я всё скажу тогда».
«Заехал в Сталинград сначала, устроился и вот —
сюда».
Опять глядит на Груньку что-то.
«Так, значит, в город?.. А не зря?»
— «По специальности…
Я слесарь теперь. Нужны и слесаря».
— «А тут дела, — вздохнула мама. —
Колхозы. Трудно: первый бой!
Остался бы, войдешь в правленье.
Ты коммунист?»
— «Само собой…
Тут — знаю…
Но и там работа,
там строят Тракторный завод.
Попробовать себя охота,
уж так решили с Груней вот…»
И мама на сестру взглянула:
«Поедет больно налегке…
Скрывала всё!»
— «Не смела, мама!..»
Слеза по маминой щеке,
еще, еще,
по той морщинке, что я разглаживал не раз,
текут
слезинка за слезинкой
из дорогих, любимых глаз.
А Грунька к маме наклонилась
и хнычет что-то,
а матрос:
«Мамаша», — вдруг сказал,
«Мамаша»?
И тут уж я ослеп от слез.
Впотьмах нащупываю волглый подшитый валенок
в углу.
Замах обеими руками —
он, колеся, летит к столу!
Я с печки кубарем срываюсь.
«Убью его!» —
дрожа кричу.
Сквозь сени и — с крыльца
к пожарке,
скорей, скорей — за каланчу.
Лечу, и прыгаю от страха,
и ветер марта рву плечом.
Ноздрявый снег хрустит под пяткой,
сквозь пальцы глина бьет ключом,
а краем глаза вижу ленты и Груньку:
гонятся за мной!
«Алешка, босиком, куда ты? — кричит сестра.—
Иди домой!»
— «Нет, не обманешь!
Хорошо мне, разутому, здесь на ветру».
— «Постой, Алешка!»
— «Так и встану!..»
— «Простудишься!»
— «Пускай умру!
Пускай умру,
чтоб не напрасно катилась мамина слеза.
Пускай!» — шепчу, глотая слезы,
бегу куда глядят глаза…
«…Ну и мальчишка, вот так норов!»
— «Да, что ты скажешь, весь в отца».
Гудит изба от разговоров,
сидят и судят без конца.
«Не заболеет?»
— «Что ты, Павел,
ни разу не хворал — кремень!..»
— «Ты бы, зятек, не брал, оставил —
уж больно по нему
ремень.
Три девки было,
взял хоть эту,
один мужчина у меня.
Схвачусь побить — ремня-то нету,
так — без отца и без ремня…»
Я знаю, знаю:
шутит мама, —
по голосу всё узнаю.
«А что в отца, так вылит прямо,
хоть песенность бы взял мою!»