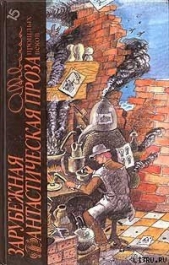Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии. читать книгу онлайн
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут надо бы мне слезть с котурн и привести несколько доказательств нашей с Юркой обыкновеннейшей человечности и нечуждости ничему человеческому — хотя бы в отношении той же любви,— чтобы пресечь любые подозрения в параллелях и аналогиях меж поэтическим отношением дю Вентре к своей далекой маркизе Л.— и нашими собственными отношениями с прекрасным полом. О себе я откровенничагь не хочу, ибо это неинтересно. О Юрке сплетничагь — не могу тем более, да и это едва ли нужно. Мне хотелось только сказать, что время от времени мы друг для друга стояли на вассере, как гласит соответствующий жаргонизм, и поделиться некоторыми соображениями на сей счет.
Пристрастие к лингвистическим изысканиям, вполне, впрочем, дилетантски-эмпирическим, приводит меня к подчас совершенно фантастическим толкованиям подобных терминов. Многие из них на поверку оказываются одесского происхождения, относятся ко временам Бени Крика и даже более ранним, восходят к иноземным — больше немецким и французским — корням и обнаруживают весьма любопытные и неожиданные ассоциативные связи. Детская игра в «горячо — холодно», бытующая во всем мире, одесскими гувернантками могла, к примеру, проводиться и на немецком языке: играючи, детишки лучше усваивают грамматические правила. А по-немецки эта игра называется «Вода — огонь». Вода же по-немецки «вассер». Можно только подивиться остроумию одесских биндюжников, перекрестивших исконно русское «стоять на стреме» в изысканное «стоять на вассере»…
В нашем случае мне выпадало, впрочем, не столько стоять, сколько сидеть, притом за роялем. В нарушение академических предписаний насчет клавесинного, лишенного динамических нюансов исполнения Моцарта, я соблюдал ровненькое меццо-пиано лишь при том условии, что обстановка была спокойной, однако прибегал к тревожному крещендо, как только на горизонте появлялся дежурный или иной непрошеный пришелец, которому могло бы вдруг взбрести на ум заглянуть под сцену, в холодный подвал, вместилище механизма поворотного круга — нашей гордости, построенного с таким энтузиазмом,— в подвал неуютный и темный, но имевший целых три выхода…
Если сегодня случается мне слушать Моцарта в жлобском, или наивном, или невежественном исполнении, я живо вспоминаю игру в «горячо — холодно», игру на вассере, и не могу удержаться от скабрезной улыбки, совершенно непонятной окружающим и даже вызывающей их негодование и возмущение.
И еще: не люблю я с тех давних пор слушать серьезную музыку по радио. Я тотчас вспоминаю ее беспомощность и слепоту, ее безадресность — этакое «на деревню дедушке» — в лагерном бараке, или в любой иной казарме, или вообще в мировом эфире. Я убежден, что люди должны как-то приходить слушать музыку, прийти, так сказать, на какую-то сторону баррикады, чтобы определенные музыкальные (или поэтические, или вообще какие-либо художнические) мысли могли найти у них элементарный отклик.
Но это все — так, между прочим.
По сути же вопроса мне остается засвидетельствовать, что наши с Юркой мимолетности, и даже более или менее длительные увлечения, обладавшие иногда и достаточной глубиной, и всеми прочими признаками настоящего чувства, были, видимо, при всей их пылкости и полноте, исключавших даже самую мысль о поверхностности или циничном потребительстве,— все же неким заменителем идеала, очередным поиском — и, рано или поздно, разочарованием. «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Макса Фриша — при верном его прочтении — скажет читателю больше и более внятно, что я имею в виду. Мы с Юркой тогда не знали и не могли еще знать фришевской трактовки древней темы Дон Жуана, но мы нашли некий эквивалент — в жизнелюбии и даже, пожалуй, известной неразборчивости дю Вентре, не только не противоречивших его единственной большой любви к далекой маркизе Л., но даже как бы возвышавших эту идеальную любовь в наших глазах.
У каждого из нас была своя маркиза Л., у Юрки — даже с именем, начинавшимся на «Л»: Люся. Поэтому, вероятно, столько старания и страдания вкладывали мы в русские заменители французских клятв в любви и верности, поэтому, видимо, сонеты, посвященные маркизе Л., все же ближе к оригиналу, чем другие, хотя бы и трактующие тоску по родине, или жажду свободы, или ненависть к врагам, или иные человеческие страсти и страстишки: там больше элементарных четырнадцатистрочников, чем истинных сонетов. Вероятно, истинный сонет — это все же прежде всего любовь, тут И.-Р. Бехер прав…
La France. La liberte. Le vin. L’amour [45] — не случайно и дю Вентре венчает «четыре слова», воплощающие для него все ценности мира, этим всеобъемлющим словом: любовь.
– Уходя от нас, ты собирался шевельнуть мозгой насчет рамки для пятьдесят второго,— начинал я пилить Юрку спозаранку, когда мы, хронически невыспавшиеся, проклиная гудок и день грядущий, облачались в свои портянки и телогрейки. Намек касался неосторожного Юркиного полуобещания, полупрограммы на .ближайшее будущее, высказанных накануне вечером в порядке «мысли вслух»: надо будет, дескать, поискать рефренную свежинку для этой штуковины с тризной, не то засушим ее усмерть. В нашем содружестве я выполнял обязанности по преимуществу погонялы и редактора, первые — с большим, вторые — с меньшим или, во всяком случае, с переменным успехом. Ежедневное «давай-давай!» служит, если верить крупнейшим авторитетам в области расшифровки феномена «талант», не самым ничтожным компонентом последнего, так что в этой констатации нет с моей стороны ни капли ложной скромности, скорее наоборот. Юрка же был, вне всякого сомнения, основным, истинным, всамделишным талантом — хотя бы по такому неопровержимому признаку, как лень. Я говорю, разумеется, не о производственной его деятельности — там он горел, как дай бог каждому,— а о творческой: если нисходило на него вдохновенье, то, кажется, в виде чуть ли не самостийно возникающих поэтических образов, обычно сразу же в законченной, совершенной форме, а вот работать — над строкой ли, над рифмой — ему было лень. Он морщился и корчился, словно от физической боли, когда приходилось — когда я упрямо требовал — что-то доработать, переделать, уточнить, отшлифовать. Юрке случалось «родить» гениальную строчку, которая и меня немедленно зачаровывала, но через минуту оказывалась, как на грех… шестистопником. Я разражался проклятьями и тут же кидался прикидывать всякие усекновения, чтобы вогнать несуразную новорожденную в законные размеры. А Юрка все пытался как-нибудь увильнуть и о презренной поверке алгеброй гармонии вспоминал, и про «новаторство» дю Вентре — почему бы ему и не ввернуть, если уж на то пошло, хороший шестистопник, если он верно звучит? — но я оставался непреклонен, А злополучная строка оставалась недоделанной — и все из-за Юркиной лени! Впрочем, de mortuis aut bene, аut nihil [46] — да простятся мне придирки мои, как прощены Юрке и лень его, и любовные мимолетности…