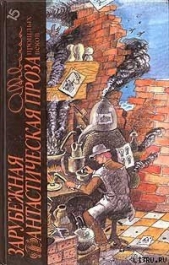Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии. читать книгу онлайн
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А с Дорой мы некоторое время были в ссоре, которую я, обогащенный шоферскими познаниями, всячески стремился прекратить, а Дора прекратить не спешила. Правда, мы снова общались в консерватории, но не было больше длинных вечерних провожаний к станции по тополиной аллее, не было и поцелуев.
В конце апреля, сдав последний экзамен, я сказал Доре, что уезжаю — навсегда домой, в Москву.
Она заплакала. «Если бы ты любил меня, ты взял бы меня с собой»,— я не утверждаю, что она сказала такие слова: я их просто слышал в ее тихом плаче. Успокоившись, уняв слезы, напудрясь и тронув губки карандашом, она сказала:
– Ты все же звони мне. Хоть изредка, ладно? Я ведь долго буду скучать. Телефон все тот же: Карлсхорст, ЕО-07-31…
Но я так ни разу и не позвонил.
Перед самой войной в газетах промелькнуло сообщение, что на Женевском конкурсе пианистов Клаудио Аррау завоевал наконец давным-давно установленную, но до тех пор никем еще не завоеванную уникальную премию: премию Парижской академии искусств за исполнение «Исламея» Балакирева «в предписанном автором темпе». Второе место присудили Доре, и я за нее очень порадовался…
В нашем бараке серьезная музыка популярностью не пользовалась, и стоило трансляционному репродуктору только начать что-либо симфоническое или камерное, как раздавалось непререкаемое требование — заткнуть его: «обратно завели енту муру собачью!»
И впрямь: мура собачья, пустой брех, одна только видимость чего-то духовного, возвышенного, человеческого. Велика ли цена этой нашей так называемой великой сокровищнице, если ни Бах, ни Моцарт, ни кто иной, ни все они вместе взятые не смогли ни на йоту улучшить человека и человечество, не смогли отучить его воевать и уничтожать, строить тюрьмы и лагеря, преследовать друг друга за любую разность: цвета кожи или цвета знамени, веры или неверия в какого-нибудь бога на земле или на небе, убежденности в той или иной конфигурации Земли, той или иной системе мироздания, или правопорядка, или социального устройства, или хотя бы устройства коммунальной квартиры!
Тут нет ни капли горечи, пессимизма или — как бы это поточнее выразиться? — неверия в силы и роль эстетики в формировании этики. Напротив: глубокая убежденность в могуществе искусства — особливо национального по форме и социалистического по содержанию — была, пожалуй, главенствующим стимулом нашей с Юркой работы над поэтическим наследием дю Вентре,— если говорить об эвентуальном значении и назначении этой работы для современников и потомков.
Но протекала эта работа в условиях не совсем обычных, и наша психика была, видимо, начисто свободна от каких бы то ни было иллюзий касательно способности искусства — любого искусства! — воздействовать на человечество, внушать ему что-либо или, наоборот, в чем-либо разубеждать. Мы успели уже пройти все круги искушения, познания добра и зла, оценки и переоценки многих абсолютов, идей и верований, так что относились уже достаточно терпимо к любым определениям и свободно могли выслушать категорическое утверждение о белизне предмета и столь же не терпящее возражений утверждение о его черноте: мы уже знали, что предмет-то скорее всего голубой или оранжевый, и то лишь из-за света, им отражаемого, а по сути, как вещь в себе, и вовсе лишен собственной окраски.
Мы уже поняли, что поэзия или музыка способны потрясти человеческую душу, если только эта душа умеет сотрясаться, но неспособны вызвать резонанс в торричеллиевой пустоте или в субстанции, гасящей любые колебания,— например, в вазелине или повидле. Мы знали, что слово поэта, или песня, или труба могут поднять людей на новый штурм, на отчаянную атаку, пусть даже обреченную на поражение,— но только относится это к людям, которые уже оказались на этой стороне баррикады. Для той стороны, для противника, ни наши стихи, ни наши песни подобными чарами не обладают.
На той стороне действуют иные стихи и иные песни. И действуют, надо полагать, не менее эффективно, чем на нашей. Если обратиться к художникам каждой данной современности, вопрос о партийности их искусства, о том, на чьей стороне эти художники и их творчество, как-то сам собой разрешается — во всяком случае, в глазах и в представлении их современников. Но уже через пятьдесят лет их творчество почему-то начинает с равным успехом (или с одинаково малым успехом) служить и вашим и нашим,— что нельзя, разумеется, ставить в вину самим художникам, успевшим уже отойти в мир иной, но что не мешает нам все же хотя бы усомниться в истинности и незыблемости первоначальной классификации. Музыка Вагнера, к примеру, — кому она только не «служила»!
Мы с Юркой не часто пускались в подобные бесплодные философствования, мы будто слышали уже нравоучительный глас ментора, изобличающего нас в «невероятной путанице», царящей в наших головах, в непонимании неких элементарных «законов марксистско-ленинской эстетики» и прочих грехах; мы, впрочем, никогда и не притязали на полное понимание функций искусства — ни наших дней, ни далекого прошлого, ни тем более светлого будущего. Мы только сомневались,— сомневались все больше и, если можно так выразиться, все более убежденно в правомерности самого нашего сомнения. Мы тогда еще не знали многих глубокомысленных изречений, характерных для этаких сомнений нынешних, уже послевоенных художников,— например, столь емкого определения Карлоса Фуэнтеса [44] , согласно которому в современном обществе, похожем на двуликого Януса, всегда сочетаются два времени — очень далекое от того, что было, и очень далекое от того, что должно быть… Но наше, как многие считали, «бегство в шестнадцатый век» (которое было не бегством вовсе — то есть не уходом от чего-то, а скорее устремлением куда-то — к ренессансу) выражало, по сути, все ту же неудовлетворенность временем — слишком далеким от прошлого, успевшего обрести прекрасные черты классицизма, и еще более далеким от того, что когда-нибудь настанет.
Моцарта играл я Юрке один или от силы два раза — в том особом смысле, о котором у Пастернака сказано: «мне Брамса сыграют — тоской изойду», нам ведь нечасто доводилось уединяться у рояля, мы были не в доме отдыха. Оба, кажется, раза Юрка реагировал одной и той же категорической строкой дю Вентре: Одна любовь! Все прочее — химера! И хотя он при этом улыбался, и хотя ироничность такого резюме была ясна и без его улыбки, мне все же кажется, что даже и эта моя игра, игра уже порядком растренированными, одеревенелыми, дисквалифицированными пальцами была, возможно, еще озарена любовью, и не только моцартовской.