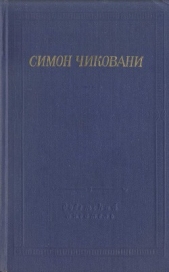Поле пыли и пала.
Спорыш на тропе. Репьи.
Выгоревшие кварталы,
Заплывшие колеи.
Ни могил. Ни домов. Ни стен.
Поле печали. Тлен.
Рваная жесть злющая,
Кирпичной кладки пеньки
И тесно к руинам льнущие
Памяти ручейки.
Дай ты мне руку. Дай руку.
Пойдем по золе вдвоем
В прозренье, в терзанье, в муку,
В прорезаемый вспышкой тревог окоем.
Дай руку, мое видение,
Пойдем, как мною задумано,
Через горькое запустение
К яру расстрелянных в Умани.
Вот и ты. Приостановилась,
Всматриваясь в свой же след.
Ни капли не изменилась
За все сорок восемь лет.
Дай руку мне. Бугры и ямы
Я вижу сквозь тебя. А там
Твой отец и моя мама
Спускаются сверху к нам.
И сквозь них маячат мне просторы,
Вы тени, вы моя печаль,
Расстрелянная здесь Дебора,
Глядящая куда-то вдаль.
Дай руку. Дай руку, мертвая,
Дай руку, еще живую,
Руку, к нам простертую,
Когда на труху степную
Ты пала, давясь немотою,
Заламываясь в яру.
Я пальцы твои беру,
Словно даянье святое.
И вот мы с тобой идем, одиноки,
На десять веков как проложенный шлях,
И звучат на твоих побледневших губах
Былых поэм угловатые строки.
И думы мои, следопыты,
Раскопщики давних гробов,
Бегут по тропе, пробитой
Меж высохших русл и годов.
Прикручен к их черным марам
Чудовищно грузный вьюк,
И выбран тот путь недаром,
Не пригрезился вдруг.
Проваливаясь в канавы,
Спотыкаясь о пни,
След роняя кровавый
На жестких пучках стерни,
Они пробегают мимо
Изгаженных пустырей,
И глиняных стен незримых,
И вышибленных дверей,
И быта останков тленных,
И горелых досок,
И халуп незабвенных,
И призрачных синагог,
Мимо собора греческого,
Где образа в позолотце,
Мимо подворья певческого,
Где в гайдамацком колодце
Горстка полых костей
В толще черного ила,—
В слезящейся цвели могила
Гонты двоих детей.
Мимо костров гайдаматчины
И плаца того, где колья
Ставили в ряд для схваченных,
Чтоб вопль их, мучимых, раскоряченных,
Весь город скручивал болью.
О, монастырь униатский!
Зданья спесиво молчат
Над буйным майданом козацким,
Над плачем порушенных хат.
В этих залах просторных,
В этих безмолвных стенах,
Место для мар черных
С криком всех убиенных.
Так ставьте же мары! Да станется чудо!
Пусть свет нестерпимый ударит оттуда,
И память, как Лазарь, восстанет и плат
Отбросит с лица, и развеется смрад.
Дебора! Ты первой по праву явись!
Еще не утих в полумраке кулис
Твоих деревяг перестук однозначный
И гул пианино, натруженный гул,
Когда ты касалась рукою прозрачной
Той крышки потертой, усевшись на стул.
Играешь и правишь, владеешь и славишь
Дерзание, поиск, решимость, бунтарство,
И музыка, вся, в недоступное царство
Стремится ворваться по лестнице клавиш…
Так это было. В тот пустой костел,
Где крест на потолке виднелся плоский
И лепкой ласточкиных гнезд расцвел
Карниз, лишенный краски и известки,
Наряд рукастых плотников пришел,
Сбил доски в шип, соорудил подмостки,
И занавес тряпичный взмахом крыл
Костел в театр народный превратил.
Сюда пришли бродячие актеры,
Лесь Курбас вел театр учебный свой,
Здесь Гонты беспощадные укоры,
Здесь пушкинских октав хрустальный строй,
Слепым Эдипом спугнутые хоры
И ведьм Шекспировых зловещий вой
Сменялись чередой неугомонной
Под гром аплодисментов Первой Конной.
А перед тем, как бог неутомим,
Над стайкою подростков, да, над нами,
Был Курбас тут властителем одним.
Мы кое-как толкались в мимодраме,
Нам не давались тайны пантомим,
Но мы служили ревностно в сем храме,
А ты, Дебора, канторова дочь,
Своей игрой старалась нам помочь.
И Курбас временами благосклонно
Вполоборота в сторону твою
Ронял как бы небрежно: «Браво, донна!
И кто учил! Умеешь, признаю».
Ты вспыхивала радостно, смущенно.
В чистилище мы были. Ты — в раю.
В раю, где учат юных и стыдливых.
Что преданность есть счастье несчастливых.
А кто учил? Я помню непритворно
Пенсне, бородку, вечно грустный взгляд,
Залысины под срез ермолки черной,
Фигуры худобу и рук несклад
И вдруг — аккорд, громадный и просторный,
Когда ударят пальцы в звукоряд.
В миру старинной песенной тревоги
Он жил, отец твой, кантор синагоги.
Одна невоплотившаяся тема
Своей в нем дожидалась череды.
В нем будто дозревала теорема,
Как воедино сочетать лады
Взлетающих крещендо Баал-Шема
И сладостных псалмов Сковороды,
Чтоб вера в лучшее была пропета
И в том ладу жила, как в капле света.
И он тебе, Дебора, подарил
Единый мир для песен двух народов,
Тех, что левит во скинии творил,
И тех — от бандуристов-нищебродов.
Стонал «Кол-Нидрей», и внезапно плыл
Козацкий плач по павшим в дни походов,
Соединялись реки красоты,
Обеим им была причастна ты.
Гармонии учителем печальным
Был для тебя тот робкий человек.
Учил тебя рыданьям ритуальным
И тихой песне про летящий снег,
Волнуемый лишь выдохом прощальным
На белой груди, замершей навек.
Указывал он молча в ноте каждой:
Суть красоты — тоска, тоска и жажда.
Неразговорчив был старик еврей.
Лишь в музыке учил бедняга дочку
Искать опоры, пряча в тьме очей
Навязчивые страхи одиночки.
Душа всех этих замкнутых людей
Таила вихрь под тихой оболочкой,
Но раскрывалась в музыке она,
Сокровищ груды выплеснув со дна.
Тогда еще не мог я внять причины
Их скрытности, их полунемоты.
Полуподросток видит лишь личины,
Он весь в плену наружной суеты,
Не может он проникнуть в душ пучины,
Где исступленья скованы пласты.
Хотел я знать, но я узнал нескоро
Ту страшную историю, Дебора…
Не шел — вышагивал по диабазу,
Топча осколки битого стекла.
Пудовый пулемет в руках всем сразу
Казал — мол, сила есть, и все дела.
На площадь вышел, злой, багровоглазый:
«Где выкуп? Где обманщики-жиды?
А ну, давай сюда любого к вязу!
Забегают, их бога растуды!»
Ломиться в ближний дом взялся подручный.
Тем временем базарные ряды
Стецюра прошерстил собственноручно.
Кумир толпы, борцовский чемпион,
Ему ломаться в цирке стало скучно,
Вот и подался в атаманы он.
Пусть всё дрожит, вдали шаги заслыша
Того, кто город положил в карман.
Забились в норы и сидят, как мыши?
Шалишь! Того не стерпит атаман:
«Пришел наш час! Плесни еще! Красиво!
Гуляй, кто с нами! Двигай на майдан!
Ломай вот здесь. О! Я же знал — пожива.
Прибрось конца на шею старику.
Чего ж ты, старый змей, такую Риву
От нас за шкафом прятал в уголку?
Ах, обморок? А нам вполне удобно.
А ну…»
Удар. «Ой, папа! Не могу!»
Как воет мрак! Как мучит рвота злобно!
Боль мерзкая гвоздями тычет в пах.
Ни умереть ни жить. В норе утробной
И наяву душа кричит, и в снах.
Ослизлым мясом обернулось тело,
Паскудством — плоть, позором — дикий страх.
Ты замолчала, как заледенела,
Шарахнувшись во тьму от света дня.
Смолк и отец. Возился неумело,
Себя презреньем собственным казня.
Не подходил к соседскому порогу,
По вечерам не зажигал огня
И бросил петь, отринул синагогу.
Беззвучный крик, как кляп, набился в рот,
Но крик уже не к людям и не к богу.
Тянулись дни. Пришел двадцатый год,
Обвалы армий возле горизонта,
И через Умань, набирая ход,
Буденновский поток рванулся к фронту.
И тут театр обрел свой смысл и хлеб —
Поставил «Гайдамаков». Голос Гонты
Из легендарных дней кровавых треб
Сжигал сердца огнем вольнолюбивым.
Лесь Курбас перелом людских судеб
Услышал сердцем жадным и пытливым.
В нем отозвался времени наказ,
Влекомого ликующим порывом.
Он слышал всё и так узнал про вас,
Про дочь и про отца, и вашу муку
Он принял, как свою, его потряс
Ваш исступленный вопль, лишенный звука,
И к немоте израненных сердец
Он протянул участливую руку.
Когда и где встречались твой отец
И режиссер, ни ты ни я не знаем.
И папа изумил тебя вконец,
Когда однажды, чем-то раздираем,
Придя домой, довольно долго он
Ходил, молчал и вдруг — «Давай сыграем!» —
Рванул рояльной крышки мертвый склон,
Отвыкшею рукой аккорд нащупал,
И лязгнул струн ослабших перезвон,
И расточилась тишина халупы.
Отец сказал: «Тут подошел ко мне
Тот, киевский, руководитель труппы.
Мы с ним поговорили в стороне.
Им нужен концертмейстер помоложе.
Считает он, ты справишься вполне,
И я сказал, что дам ответ чуть позже.
Устал я ждать, покуда ты поймешь,
Что так казниться невозможно тоже.
Я бы пошел. Так что? Ты к ним пойдешь?»
И ты пошла.
Под потолками бывшего костела
Мелькали ласточки,
А отсветы, зеленые и синий,
Как листопад, со стен снижались к полу,
И пахло осенью и свежей древесиной.
И пахло
Молодыми, влажными горячими телами,
Кружившими на сцене,
Словно бабочки на блике,
И пианино ветхонькое, разогнавшись в гамме,
Их настигало лишь с усердием великим.
И люди юные так полнились своим уменьем,
Природным творчеством,
Хмелящим и истомным,
Что их тела
И сами исходили пеньем,
Разноголосьем
Радостным и неуемным.
Предаться музыке,
Ее строжайшей власти,
Налиться ритмами,
Идущими от слова,—
Почти болезненной,
Пронзительной той страсти
Сердца
Раскрыться делались готовы
Затем, чтоб в теле молодом возник
Сквозной, как молния,
Любви разящий вскрик.
О, юные сердца
В восторге непридуманном
Ушедшие в поход
За красотой и истиной,
В той
Посечённой пулями
Голодной, утлой Умани,
По радости тоскующей,
Хоть нищей и расхристанной.
Студенты, агрономы, мукомолы,
Бойцы-отпускники,
Печальницы-сестрички,
Подростки-школяры, учительницы школы,
Проворные, стрекочущие птички.
Ты им играла.
Из-под тонких пальцев
Разбрызнулись
И вдруг сомкнулись в хороводе
Бубенчики Шопеновых капризно плавных вальсов
И ливень Лысенковых грозовых мелодий.
И тот, наверное еще доисторический,
Тягучий голос зноя и пустыни
Заколыхался
Веткой пальмы химерической,
Качаемой ветрами в Палестине.
То было не забвенье, а сезам —
Отдавшись музыке,
Ты заглянула дальше
Под зыбкую поверхность мимодрам
В пещеры, в недра настоящих драм,
Без деланного пафоса и фальши.
И рвались ширмы,
Падали заслоны,
Сбылись пророчества,
Лились потоки света,
Мир музыкой набух,
И не октавы —
Ноны
Нам зазвучали
В солнечных кларнетах.
Ты никогда еще такою не была,
Как в вечер тот,
Когда в порыве вдохновенья
К высотам радостного откровенья
Нас музыкой своею ты вела.
Мы
Этот танец,
Действо,
Хоровод
Назвать решили «Мартовским смятеньем».
Запевом алым над всеобщим пробужденьем,
Необъятным,
Перекатным
Плясом полых вод.
Нива зреет,
Половеет,
Луг хмелен собой.
Это Мавка дозревает,
Это Мавка разрывает
Гомон-жгут.
Может, это танец,
Но еще и бой.
Вешние потопы с грохотом бегут.
Силой играя,
Тянется к маю
Революции юной порыв.
Руки и взоры
Вверх поднимаем,
Небо молниями перекрыв.
Окоем развернулся пурпурно.
Борото. Вспорото.
Бурно.
Крушит, ломает,
В землю вонзает,
В землю плуг.
Стих канонады последний раскат.
Первый запахан круг.
Человек человеку — брат.
Народ народу — не враг.
Друг.
Мы верим так,
Мы дышим так
Всей грудью, стремленьем:
Не завтра — сейчас,—
И учат неслыханным песням нас
Тычина,
Блакитный,
Чумак.
Засеем податливый чернозем
С песней, игрою…
С тобою, Дебора,
С тобою,
Сестрою.
Отныне мы вместе везде и во всем.
Мы вместе седлаем,
Мы вместе трубим,
Весенний порыв наш мы поровну делим.
Играючи жестом,
Стихом любым,
Мы словом пьянимся,
Как ветром, как хмелем.
Нас, тощих и босых,
Шквал подцепил
На улицах, в студии,
В школе —
Повсюду.
Дебора,
Этого я не забыл,
Этого я никогда не забуду.
И вот стою над черноротой ямой,
Немотно, грузно, горестно стою
И призываю молча и упрямо
На разговор со мною
Тень твою.
На этом выцветшем степном пятне,
На спорыше, на мусоре зловещем
Мне видятся следы детей и женщин,
И давка голых тел видна отсюда мне.
И ты средь них,
Средь них, гонимых мимо.
Руины. Смрад. Пылища как отрава.
Ты — там,
Как эта твердь — нема, неукротима,
Как эта твердь — нага и величава.
Стихает шаг
Потерянных людей,
И тишина,
И гитлеровец свищет,
И прямо в серый бок обрыва прыщут
Пунктиры
Пулевых очередей.
А ты стоишь,
Где крик над кручей гаснет,
Где хрип и хруст,
Где кровь по яру точится.
Стоишь.
Ты выше мук,
Сильнее казни,
Казнимых
Непокорная пророчица.
И ты поникла к скорченным телам.
Покрыли ржавый склон трава и хлам.
Я горстку персти взял.
Быть может,
Я твой прах
Тревожу бережно в протянутых руках?
О, как взывает тлен в моих ладонях полных!
Видения и тишь.
Нечаянный подсолнух
Пробился, засиял
В яру на рыхлом дне.
Я пригляделся. И открылось мне:
Он суть впитал твою,
То ты ему дала
Желанье солнца,
Света и тепла
И жажду музыки и красоты.
Такою и сама, Дебора, ты была.
Такой пребудешь ты.
1968
Перевод Ал. Ал. Щербакова