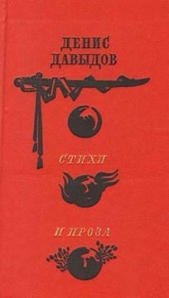Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никто изнутри не отозвался мне. Верно, спит... подумал я. Войду; если б нельзя было войти, уж конечно, дверь не была бы настежь. Я вошел.
Хвилькин, заложа руки за голову, вытянувшись, лежал на спине, как мертвый, и смотрел в потолок; он был бледен; тень от носа его лежала на лбу в виде треугольника, губы его были плотно сжаты, волосы, в беспорядке поднимаясь кверху, совершенно обнажали широкие, неровные виски его. Я испугался; но, увидавши меня, он сделал гримасу и посмотрел на меня вопросительно. Тут я убедился, что Хвилькин жив, взял его за руку и спросил, здоров ли он.
-- Здоров. А что?
-- Ну, так пьян.
-- Может быть.
-- Отчего же ты не спишь?
-- Отчего же, братец, ты не спишь?
-- Мне хотелось навестить тебя.
-- Удивительно! Не смеши, пожалуйста.
-- Я сейчас только из сада Бакауровых.
-- Ну, так что ж, что ты из сада Бакауровых!
И он опять посмотрел на меня вопросительно, даже немного рот разинул.
-- Куда ты пропал от нас? Мы тебя везде искали. Верно, спешил на свидание? Вот и платок женский. Ах ты! -- сказал я, поднимая с глиняного полу какой-то шелковый желтенький платочек.
-- Где платок? -- спросил Хвилькин, повернувши голову.
-- А вот, смотри,
-- Покажи.
И он молча, мутными глазами стал его рассматривать, потом тихонько положил его на стол и задумался.
-- Да что с тобой?
-- Да ничего, братец; спать пора, вот что.
Признаюсь, как ни туманна в эту ночь была горячая голова моя, понятны стали мне и несвоевременность моего посещения, и неуместность любопытства, Я дал себе слово ни о чем его не расспрашивать и на прощание попросил извинения, что так некстати пришел мешать ему.
-- Мешать! -- перебил он насмешливым и в то же время сонным голосом. -- Как будто я не могу при тебе заснуть и спать, сколько моей душе угодно. Эх ты, чудак-чудак! Вот, если б ты пришел тому назад два часа, ты бы, может быть, помешал мне сделать глупость, но об этом после. Уж если ты такой любопытный, что мне с тобой делать, когда-нибудь расскажу, посмешу тебя, пожалуй! Прощай!
Мы пожали друг другу руку, и я побрел домой.
На обратном пути темная ночь не имела уже для меня ни малейшей прелести, я только и думал о том, чтоб не сломать себе ноги, и, слава богу, целый пришел домой, бросился в постель и заснул мертвым сном.
X
После этого дней пять или шесть некогда мне было посетить добрейшего Михаила Ивановича; да, признаться, мне казалось совестно идти к нему. Что за непростительное любопытство! Если б он желал меня видеть, он бы и сам наконец мог прийти ко мне. Дружба дружбой, а все же не мешает и поцеремониться. Да и какой я друг ему, просто такой же приятель от нечего делать, как и другие.
Сижу я дома, вдруг говорят мне; Али-Аскар пришел.
-- Ну, зови его.
Али-Аскар, татарин, малый лет двадцати восьми, ходит в татарском архалуке и в грузинской шапке, ходит, едва-едва переваливаясь с ноги на ногу, плохо говорит по-русски, в нос, и таким медленно-ленивым голосом, как будто слово его стоит червонец и ему жаль его. Али-Аскар хорош собой, не глуп, но туп до невероятности. Ни читать, ни писать не выучился, как я ни бился. У него была на базаре маленькая лавочка, где можно было купить рахат-лукум или банку инбирного варенья, но Али-Аскар пренебрегал торговлей; ему не хотелось попасть на службу.
Сколько раз приходил он ко мне осведомляться, нет ли места где-нибудь в карантинной страже или нельзя ли ему куда-нибудь попасть в словесные переводчики; уходил же он от меня с заказом или достать мне хороший черешневый чубук без сучков и без заплат, или попросить мать свою, татарку, сварить мне плов. Плов, изготовленный руками его матери, был просто объеденье.
Делать мне было нечего, я велел Али-Аскару садиться на стул и заставил его рассказывать об эриванском землетрясении.
-- По какому же ты случаю был тогда в Эрнвани?
-- Да-ас, по тому случаю, -- отвечал он мне в нос,-- что я тогда служил вместе с советником.
То есть, подумал я, ты ему трубки чистил.
-- Да-ас, такое было тогда трясенье... Так и начало землю качать; одна стена была у нас -- чуть не упала, тогда я уж успел выбежать, да-ас! Очень тогда было страшно.
-- Ты испугался?
-- Да-ас, я очень тогда испугался. Я и теперь всю ночь не спал, -- проговорил он после некоторого молчания.
-- Когда теперь?
-- Вот эту ночь, я совсем не спал.
-- Отчего же?
-- Как ночь, так у нас и начинают этакие, очень большие кирпичи летать; даже никто и на кровлях не спит. Нельзя-с, как раз до смерти ушибет. Так окошко и вылетит, а то и об дверь ударится.
-- Кто же это бросает камни-то, я не пойму тебя.
-- Неизвестно-с, -- отвечал он, равнодушно оглядывая стены.
-- Кто-нибудь шалит, или ты врешь?
-- Не-ет-с, зачем врать! Сколько уж ни смотрели, откуда камни летят, никого не видно. Как увидать? Квартальный даже три ночи не спал -- камни все летят туды-сюды... а бросает бог знает кто, ничего нельзя увидать, такой страх. Я уж сам даже не спал-с.
-- А ты где живешь?
-- Все там живу, где жил, недалеко от банного мосту, направо.
Я вспомнил, что и Хвилькин там живет, и положил в тот же день пойти к нему и расспросить его, что за камни летают по татарскому кварталу, и, наконец, цел ли он и целы ли у него окошки.
После обеда небольшой дождик прибил городскую пыль, и я отправился.
XI
Хвилькина я не застал дома, но как нельзя лучше видел его соседку. Не только плоская кровля, но и часть глубокого двора с калиткой на другую, неизвестную мне кровлю, с двумя проложенными по ней тропинками была видна с того места, на котором остановился я полюбоваться видами.
Майя стояла от меня в шести шагах, и все остальное исчезло из глаз моих. Признаюсь, Хвилькин без зазрения совести мог влюбиться в такую женщину. По-видимому, ей было около двадцати лет. Ее лицо не было типическим, я не узнал бы в ней армянку, не принял бы ее за грузинку, но понял бы, однако, что она не русская. Черные глаза ее светились каким-то кротким, задумчивым блеском. Но когда она обернулась и посмотрела вкось, мне показалось -- в ту сторону, куда она бросила взгляд свой, промелькнула неуловимая молния. Вообще, какая-то нега, что-то светлое было разлито по всему существу ее. На руках ее был ребенок; она стояла в двух шагах от своего домика, на чужой кровле, и у какого-то прохожего инвалида торговала детские башмаки. Вероятно, башмаки показались ей слишком дороги, и она отдала их назад. Ребенок кудрявой головкой пугливо припал к плечу ее. Я следил за каждым малейшим ее движением и готов теперь уверять, что ее голос так же нежен, так же музыкален, как и вся она.
Я вспомнил желтый шелковый платочек, и Хвилькин показался мне счастливейшим из смертных.
Я думал: вы, г. Хвилькин, просто неблагодарный смертный!
На кровлю Майи вышла еще какая-то девушка с деревянным лотком на плече. Она вдруг остановилась, пристально посмотрела мне в лицо и, вероятно, довольная тем, что я не обращаю на нее большого внимания, поставила на солнце лоток, залитый тонким слоем красной пастилы, и на нитку, проведенную от одной палочки до другой, воткнутой между кирпичами, стала развешивать небольшие пучки какой-то зелени. В этой девушке я сейчас узнал армянский тип: низенький лоб, тонкий нос и полные бледные щеки. Я видел ее мельком, совершенно озадаченный красотой Майи.
Вдруг, слышу, кто-то поет:
Лежала Венера!
С ней сын ее играл.
Наконец кто-то внизу хлопнул дверью и побежал-- голова Филата выскочила на поверхность кровли, и наконец весь он появился -- весь как есть -- в какой-то серой куртке и простоволосый.