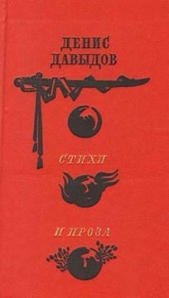Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- Постой! -- наконец заговорил он, приходя в себя -- Постой, дружба после, а теперь обедать, я как собака голоден!
-- Да где ты живешь теперь? В Манглисе, или на Белом ключе, или...
-- Не скажу, где живу! Ну... вот, не скажу!
-- Где ты все это время обедал?-- спросил я Хвилькина, усевшись около него, верхом на стуле.
-- На Песках, в гостинице Зальцмана.
-- Неужели обед там лучше?
-- Нет, не лучше; да мне хотелось там обедать, ну, вот я там и обедал; где мне кажется лучше, там и лучше... Не мешай мне есть, я хочу пить.
Все захохотали, и компания оживилась. Одному из нас, известному под именем Дон-Педро, пришла в голову мысль придраться к какому-нибудь случаю, чтоб поставить бутылку шампанского.
Хвилькин понял его и сказал, что он на новой квартире и что не худо бы выпить; вследствие чего потребовал себе еще порцию говядины.
-- С новосельем! -- закричал Дон-Педро и велел поставить в лед бутылку шампанского, причем один толстенький румяный человек, в золотых очках, залился звонким, насмешливым хохотом.
Обед приходил к концу; лакеи раскрывали ломберные столы; из бильярдной комнаты раздалось первое столкновение костяных шаров; "три и ничего!" -- прокричал маркер; на улице шарманка заиграла какой-то вальс. Хвилькин велел подать другую бутылку шампанского.
Вечером того же дня все мы собирались ехать пить чай за город, в виноградный сад к купцу Бакаурову, и стали просить Хвилькина не отставать от нас.
Хвилькин сказал нам, что так и быть, он потешит нас, что чего другого мы от него не дождемся, а поехать, пожалуй, он поедет!
Мы отправились все вместе, гурьбой; Хвилькина я посадил к себе на дрожки. По дороге подрядил он себе другого извозчика и велел ему за нами же следовать.
-- Ведь я везу тебя! На что же тебе другой извозчик? -- сказал я ему.
-- А пусть едет! Ему делать нечего, так пусть прогуляется, -- отвечал Хвилькин.
VIII
Так как я пишу не повесть, а рассказ, то надеюсь, читатели мои не будут слишком взыскательны и не упрекнут меня за ненужные отступления. Мне диктует память, и я пишу, как пишется, не вдаваясь ни в какие художественные соображения.
-- Милостэ просем! -- сказал нам хозяин сада, снял грузинскую шапку и в знак почтения отнес ее немного в сторону. Хозяин был человек бывалый, помнил старое время и любил нас. Сам соблюдал все грузинские обычаи, а детей учиться отдал в гимназию. Судя по чертам лица его, нельзя было сомневаться в его смышлености. Улыбнувшись необычайно сладкой улыбкой, он замахал своими откидными рукавами, зашелестел своими шароварами и с видом заботливости, с явным желанием распорядиться, на целые полчаса ушел от нас.
Мы остались полными хозяевами вертограда и разбрелись в тени виноградных куртин отыскивать зрелые ягоды среди еще не зрелых, зеленоватых гроздий.
Теплый ветер шелестил разогретыми на солнце виноградными листьями, и мы дышали запахом уже опадающих махровых роз.
Я знал, что недаром от нас ушел хозяин. Принесли большой ковер и разостлали его в тени двух огромных грецких орешников. Положили нам мутаки, то есть подушки, в виде мягких вальков, и мы, из приличия, снявши галстуки, разлеглись, как султаны.
Через полчаса мы опять услыхали тот же голос: милостэ просем! -- и хозяин явился в сопровождении огромного подноса со стаканами разлитого чаю. Каждому из нас дали по чубуку в руки, и мы были счастливы.
Общая болтовня не мешала мне любоваться пурпуром и торжественностью заходящего солнца; уже края его касались вершины гор,*но до берегов Куры еще не достигла широко подвигающаяся лиловая тень вечера. По лиственным верхушкам сада еще бегали золотые искорки; белая гладкая стена небольшой загородной старинной церкви сияла тонко-розовым, нежным, неуловим"о нежным блеском. Прилегая головой к ковру, я видел, как мелькала эта стена за низенькой оградой и как промеж узловатых виноградных лоз ясно вырезывались на ней фигуры наших извозчиков, стоявших в совершенной тени, на луговинке, за калиткой сада. Хвилькин посматривал на часы да рассказывал разные анекдоты. Все смеялись. Я думал.
Этот нелепый человек в нашей компании совсем другой, совсем не тот, каким, например, я видел его у себя дома, в архалуке, на земляной террасе. Кто, глядя на него, подумает, что он способен влюбляться? А ведь, кажется, весь нараспашку! Или, влюбившись, он первый понял, что это как-то совсем нейдет к его комическому лицу; и кто знает, быть может, он затем и прилетел сюда, чтоб под новым ясным небом, под другим жарким солнцем искать того, чего не нашел на севере...
Часу в девятом вечера хозяин сада повел нас в маран (здание, где делают и хранят вино); там приказал он садовникам вскрыть еще засыпанный землею, еще девственный кувшин никем еще не возмущенного вина и, по снятии деревянным ковшом пены и заплесневелой накипи, первый погрузил и за наше здоровье духом выпил полную серебряную азарпешу {Азарпеша -- плоскодонная чашка с длинной рукояткой. (Прим. авт.)}. Когда мы все поочередно стали подносить к губам эту круговую грузинскую чашу, оказалось, что Хвилькин исчез из сада. Понял я, для чего он нанял лишнего извозчика, и, не отставая от прочих, порядочно побранил его.
IX
Часов до одиннадцати ночи пировал я в саду у гостеприимного Бакаурова; в голове моей слегка шумело, когда я возвращался домой; руки мои лениво слушались, когда я повязывал галстук; жаркие мечты, странные предположения далеко отогнали от меня и сон и даже желание поскорей вернуться домой и отдохнуть в постели. С полдороги я отпустил извозчика и, расстегнувши жилет, пошел себе без определенной цели, с горы на гору, по закоулкам старого Тифлиса. Луна закатилась, ночь была темна, ворота, ставни и двери были заперты, небо, мутно-темное, было усыпано звездами; но на юге, в жаркие, душные ночи, звезды как будто уходят выше, подальше от земли и едва мелькают. Наши северные звезды гораздо ярче, но зато наш гиперборейский месяц -- далеко не южный. Я в эту ночь несколько раз принимался его отыскивать. Передо мной с одной стороны поднимались как уголь черные массы стен; с другой открывалось синее воздушное пространство, на котором рисовались очерки труб, кирпичных квадратов и усеченных треугольников. Темная теплая ночь к полуночи стала до того тиха, что я слышал шорох -- но что это было такое? Ящерицы ли пугливо бегали по трещинам неровных, стародавних стен или женщина тихонько раздевалась и, снимая шелковое платье, сбиралась у родной трубы, на плоской кровле, лечь на пыльный матрац и заснуть под открытым небом. Нервы мои тихо вздрагивали: мне чудилось, кто-то стонал и жарко бредил посреди всеобщего молчания; помню, шагах в десяти от меня, окруженное мраком и таинственностью, светилось какое-то окошечко; помню, розовая занавеска долго дразнила и бесила меня, но почему и отчего? -- не помню.
Вдруг пришла мне в голову мысль... показалось мне, что не далеко до обиталища моего друга -- Хвилькина; смело решился я одолеть все препятствия и удостовериться, спит ли он. Вспомнил я, что он так изменнически покинул нас в саду Бакаурова, и не то рассердился я, не то захотелось мне в эту ночь обнять его и до утра с ним пробеседовать. Пускай спит -- не беда, если я разбужу его. С этой мыслью я до тех пор блуждал, лазил, спотыкался, пугал собак и щупал ногами землю, чтоб не провалиться в трубу или не очутиться на чужом дворе, пока действительно не отыскал досок между двух стен, по которым я и взобрался на террасу. Признаюсь, я все еще сомневался, туда ли я лезу, и не без некоторого волнения остановился перед маленькой дверью знакомой комнатки.
-- Хвилькин, дома ли ты? Можно ли мне войти к тебе? -- проговорил я с досадой на самого себя.
Дверь была настежь отворена; передо мной в неясном, красноватом сумраке неподвижно сияло голубоватое пламя свечки.