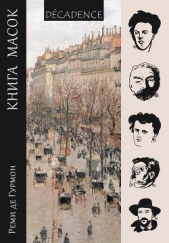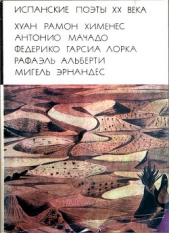Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы

Эмиль Верхарн Стихотворения, Зори; Морис Метерлинк Пьесы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марко. Гвидо, я тебя понимаю! Испытание это так же тягостно мне, как тебе. Но удар нанесен. Пусть же разум уравновесит нашу скорбь и наш тягостный долг.
Гвидо. Предложение столь гнусно, что по отношению к нему может быть только один долг. И, чем больше мы будем над ним размышлять, тем отчетливее выступит перед нами весь его ужас.
Марко. И все же задай себе вопрос, Гвидо: имеешь ли ты право обречь на смерть целый народ единственно для того, чтобы неотвратимую беду отсрочить всего на несколько часов? Ведь если город возьмут, Ванна неизбежно окажется в руках победителя…
Гвидо. Это касается только меня…
Марко. А тысячи жизней? Сознайся, что это много — может быть, даже слишком много — и что ты поступаешь несправедливо… Если б от этого выбора зависело только твое счастье и ты выбрал бы смерть, я бы понял тебя, несмотря на то, что, прожив целую жизнь, повидав на своем веку немало людей, а значит, и горя, я пришел к заключению, что выбрать смерть, страшную, холодную смерть с ее вечным молчаньем, предпочесть ее какой угодно телесной или душевной муке, которая хотя бы отдалила ее, может только человек неразумный… А здесь речь идет о тысячах жизней, о соратниках, женщинах, детях… Исполни просьбу безумца — и люди, которые будут жить после нас, вменят тебе в доблесть именно то, против чего сейчас восстает все твое существо. Наши потомки взглянут на твой поступок взором спокойным, справедливым и человечным… Спасти чью-нибудь жизнь — это самый высокий подвиг, поверь мне. Все добродетели, все человеческие совершенства, всё, что зовем мы верностью, честью, чем хочешь еще, — все по сравнению с этим пустая игра… Ты хочешь остаться чистым, ты хочешь из страшного испытания выйти героем, но напрасно ты думаешь, будто у героизма нет, кроме смерти, других вершин. Самый доблестный подвиг — это наитруднейший, а жизнь нередко тяжелее, чем смерть.
Гвидо. Ты — мой отец?..
Марко. И этим я горжусь… И если я борюсь сейчас с тобою, то и с самим собою я борюсь. Когда бы ты мне уступил мгновенно, я бы тебя, о сын мой, разлюбил…
Гвидо. О да, ты мой отец, и вслед за мною ты тоже предпочтешь позору смерть. Я отвергаю гнусное условье, и ты, вернувшись в лагерь флорентийцев, страданий чашу осуши до дна…
Марко. Сын мой, не обо мне идет речь. Я — никому не нужный старик, и жить мне все равно осталось недолго… Мне нет смысла бороться с закоренелым моим безрассудством, вершины мудрости мне все равно уже не достигнуть… Зачем я должен идти к флорентийцам — это для меня так и останется непостижимым… В моем старом теле живет молодая душа. Время благоразумия от меня еще далеко… И я горюю о том, что силы прошлого препятствуют мне безрассудное мое обещанье нарушить…
Гвидо. Я последую твоему примеру.
Марко. Что ты хочешь этим сказать?..
Гвидо. Я поступлю так же, как ты, и я останусь верен тем силам прошлого, которые ты теперь презираешь, но которые, к счастью, еще имеют власть над тобой…
Марко. Когда речь идет о других, они всякую власть надо мною теряют. И если, дабы просветить твою душу, мне должно пожертвовать моим жалким старческим честным словом, то я не сдержу своего обещанья. Как хочешь, но я туда не пойду…
Гвидо. Довольно, отец! Иначе у меня с языка сорвутся слова, которые сын не вправе бросать отцу, даже если отец сбился с прямого пути…
Марко. Сын мой, произнеси любые слова, какие только в сердце твоем рождает негодованье! Я приму их за выражение истинной скорби… Что бы ты мне ни сказал, я тебя не разлюблю… Но место проклятий, которые ты станешь сейчас изрыгать на меня, пусть заступят в твоей душе благоразумие и состраданье!..
Гвидо. Довольно! Я не хочу больше слушать. Ты только подумай, ты только представь себе, на что ты меня толкаешь. Это тебе изменил твой высокий и благородный разум; страх смерти помрачил твою мудрость. Я же смотрю в лицо смерти спокойно. Я помню те уроки отваги, которые успел ты мне преподать в то самое время, когда тебя еще не согнули ни годы, ни бесплодная книжная мудрость… Мы здесь одни. Мои два лейтенанта и я — твоей мы слабости минутной не разгласим. И тайна эта с нами умрет. А наша смерть не за горами. Итак, нам предстоит последний бой…
Марко. Нет, мой сын, это не слабость. Годы и бесполезные книги открыли мне, что всякая человеческая жизнь драгоценна. Ты чтишь только один род отваги, и ты полагаешь, что я эту отвагу утратил, но во мне живет иная отвага, правда, не такая блестящая и не столь прославленная, ибо она меньше зла причиняет, а люди преклоняются лишь перед тем, что приносит им горе… Она-то мне и поможет исполнить свой долг до конца.
Гвидо. Как — до конца?
Марко. Неудачно мной начатое я хочу завершить. Ты — один из моих судей, но не единственный, и все те, чья решается участь сейчас, вправе знать свой удел, вправе знать, от чего их спасенье зависит…
Гвидо. Я не совсем понимаю тебя. По крайней мере, мне хочется думать, что я не так тебя понял… Ты говоришь…
Марко. Я говорю, что выйду к народу и объявлю, в чем состоит предложение Принчивалле и что ты отказался его принять.
Гвидо. Хорошо. На сей раз я понял. Мне жаль, что этот бесполезный разговор так далеко нас завел. И еще я жалею, что из-за твоего ослепления я вынужден не пощадить твой возраст. Но долг сына — защитить заблудшего отца даже от него самого. Как бы то ни было, пока Пиза еще не разрушена, я ее повелитель и страж ее чести. Борсо и Торелло, вашим заботам я поручаю моего отца. Вы будете за ним смотреть, пока на него не найдет просветление. Итак, отец, все это между нами. Мы не проговоримся. Я тебя от всей души прощаю. Но и ты в свой смертный час простишь меня, конечно: ты вспомнишь, что меня ты воспитал бесстрашным, мужественным человеком.
Марко. О, я тебя уже сейчас прощаю! Я так же поступил бы, как и ты. Ты властен у меня отнять свободу, но мысль мою тебе не заточить! Теперь никто не заглушит мой голос!
Гвидо. Что это значит?
Марко. То, что в эту самую минуту синьория обсуждает предложение Принчивалле.
Гвидо. Как? Синьория?.. Кто же ей сказал?..
Марко. Я ей сказал сперва, потом тебе…
Гвидо. О, неужели смерти страх и старость твой ясный ум навеки помрачили? Ужель твоя душа так очерствела, что всю мою любовь, восторг, блаженство, одежды нашей брачной чистоту согласен ты предать в чужие руки? И руки эти примутся спокойно все взвешивать и измерять, как будто они в лавчонках взвешивают соль!.. Не может быть!.. Тогда лишь я поверю, когда воочию увижу срам… Когда же я во всем удостоверюсь, взгляну я на тебя, о мой отец, которого я некогда любил, которого, казалось мне, я знал, которому я тщился подражать… И я взгляну с таким же омерзеньем, как на того распутного злодея, который хочет окунуть нас в грязь…
Марко. Сын мой, ты прав! Ты недостаточно хорошо меня знал, и это всецело моя вина. Когда пришла ко мне старость, я не делился с тобою всем тем, чему она ежедневно учила меня, а ведь я уже по-иному стал смотреть на жизнь, на любовь, на счастье и горе земное… Так часто бывает: живешь рядом с дорогим существом, беседуешь с ним, а единственно важное таишь про себя… Словно в тумане живешь, по теченью плывешь. И мнится тебе, что вокруг все меняется вместе с тобой. Когда же несчастье прерывает твой сон, с удивлением видишь, как далеко мы теперь друг от друга… Если б я раньше поведал тебе, какие в сердце моем произошли перемены, как одно за другим от него отлетали пустые мечтанья, как трезвые истины заступали их место, я не стоял бы сейчас пред тобою жалким и ненавистным тебе незнакомцем…
Гвидо. Я счастлив, что тебя я лишь сейчас узнал… Ну, а я… я готов ко всему. Я наперед могу сказать, как решит синьория. В самом деле, это так просто — спасти всех за счет одного человека! Перед таким соблазном не устояли бы и более благородные сердца, а про этих торгашей, дрожащих за свои прилавки, и говорить нечего. Но я им не слуга! Я никому не слуга. Я пожертвовал им своим сном, своей кровью, я делил с ними муки и тяготы долгой осады — и довольно, конец! Остальное мое. Я им не подчиняюсь. Я покажу им всем, что я еще начальник. Три сотни моих страдиотов повинуются только мне, а трусов они слушать не станут!..